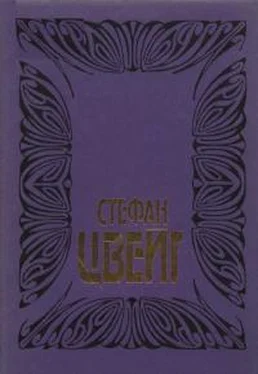Ибо Греция, которую видит Гёльдерлин в сиянии из своего мрака, — это уже не маленькая Эллада, выдвинутый в море полуостров, а центр мира, начало и средоточие всякого бытия: «Оттуда исходит, туда указует грядущий бог». Это источник духовности, внезапно пробившийся из ущелья варварства, и в то же время святое море, куда впадали некогда потоки народов, мать будущей «Германии», звено, соединяющее мистерию Азии с мифом о распятом; как и Ницше в последнем крушении духа, преисполнен Гёльдерлин в свои сумерки предчувствием последней, высшей связи Христа и Пана, трагическим чаянием «распятого Диониса», которым мнил себя Ницше в последнем упоении. Неизмеримо вознесен символ Эллады. Никогда не создавал поэт более смелую концепцию истории, чем Гёльдерлин в своих последних, лишенных явного смысла песнях.
И тут, в этих гремящих песнях, в кряжисто-хаотических, скалами высящихся переводах из Пиндара и Софокла, возвышается язык Гёльдерлина над эллинистической, чисто-аполлинийской ясностью своих первых опытов: гигантскими обломками микенской стены, мифической, первобытной Греции врываются эти транспозиции трагического ритма в наш холодный, искусственно согретый язык. Не слово поэта, не трезвое значение стиха в сохранности переправлено здесь с одного языкового берега на другой: пламенное ядро созидающей страсти вновь возгорается в своем исконном могуществе. Подобно тому, как в органическом мире слепые слышат яснее и глубже, подобно тому, как омертвение одного чувства повышает восприимчивость, яркость других чувств, так дух Гёльдерлина-художника раскрывается для ритмической мощи глубин, с той поры как померк для него ясный свет трезвого разума: с неистовой смелостью сжимает он язык, пока кровь мелодии не брызнет из всех его пор; он ломает кисти синтаксического строения, он сообщает им новую гибкость и звенящими ритмическими ударами вновь выковывает их звучащее напряжение. Как Микеланджело в своих незавершенных глыбах, так Гёльдерлин в своих хаотических фрагментах совершеннее, чем само совершенство, которое всегда замкнуто в определенных рамках: не единичный голос поэта, а хаос, первобытная мощь звучит в них могучим гимном.
Так величественно, в пурпурном сумраке, уходит в ночь дух Гёльдерлина; прежде чем обратиться в черный шлак, костер еще раз мощно взметается пламенем в небо. Не только мечтательный гений Гёльдерлина, но и демон его, безудержный в своей тоске, — подобие божества. Когда демонизм прорывается в поэте сквозь расщепленный облик человека, пламя его обычно омрачено парами алкоголя (Граббе, Гюнтер, Верлен, Марло) или смешано с дымящимся фимиамом самогипноза (Байрон, Ленау). Но опьянение Гёльдерлина чисто, и его уход — не падение, а героический возврат в беспредельность. Язык Гёльдерлина растворяется в ритме, его дух — в возвышенном видении: он попадает в свою исконную, первобытную стихию. Самый закат его — музыка, увядание — песнь. Подобно Эвфориону, символу поэзии в «Фаусте», сыну немецкого и эллинского духа, только тленной, телесной частью своего существа он погружается во мрак небытия; серебристый ореол его взвивается к небу и парит среди звезд.
Но далеко он, нет его здесь,
Он заблудился, ибо благи Гении: горная речь — ныне его.
В течение сорока лет земная жизнь Гёльдерлина окутана облаком безумия; на земле остается лишь жалкая стареющая тень Гёльдерлина — Скарданелли: ибо так и только так подписывает его беспомощная рука беспорядочные листки со стихами. Он забыт собой и миром.
Среди чужих людей, в доме честного столяра, тянется жизнь Скарданелли далеко в глубь столетия. Незаметно пролетает время над сумеречным челом, и наконец белеет от его бледного прикосновения некогда светлокудрая голова. Внешний мир слагается в роковых событиях и переменах: Наполеон вторгается в Германию и получает отпор, Россия преследует его до Эльбы и Св. Елены, там живет он, словно скованный Прометей, еще десять лет, умирает и становится легендой, — тюбингенский отшельник, некогда воспевавший «Аркольского героя», ничего не знает об этом. Уходит Шиллер, властитель его юности, однажды ночью опускают его в могилу веймарские ремесленники, годы и годы истлевает его прах, потом раскрывается гроб, и Гёте задумчиво держит в руках череп друга, — но Скарданелли, в «небесное проданный рабство», уже не понимает слова «смерть». И сам Гёте, восьмидесятитрехлетний веймарский мудрец, уходит в смерть вслед за Бетховеном, Клейстом, Новалисом, Шубертом; даже Вайблингер, студентом часто посещавший Скарданелли в его уединении, уже похоронен, — а он все еще влачит «свою змеиную жизнь». Вырастает новое поколение, безвестные сыновья Гёльдерлина, Гиперион и Эмпедокл, уже любимые и признанные, странствуют по немецкой земле, — но ни слова, ни тени предчувствия не доносится в тюбингенский склеп духа. Он весь — по ту сторону времени, весь погружен в вечность, в ритм и мелодию.
Читать дальше