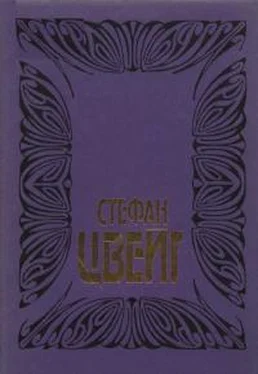Но все-таки, даже он, этот осведомленнейший человек, недооценивал действительности. Уже в первые дни с ужасом видит Роллан, в какой бесконечной мере превзошла все прежнее и все предположения эта война с ее средствами борьбы, ее материальным и духовным зверством, ее размерами и страстями; главным же образом видит он, что еще никогда ненависть европейских народов друг к другу (которые ведь уже тысячу лет беспрерывно воюют то вместе, то один против другого), неистовствующая в словах и делах, не проявлялась так бессмысленно, как в этом двадцатом веке после рождества Христова. Никогда прежде в истории человечества злоба не захватывала столь широкие слои, никогда она не свирепствовала так зверски в среде интеллигенции, никогда не подливалось в огонь так много масла из стольких источников и труб духа, из канав газет, из реторт ученых. Все дурные инстинкты, казалось, усилились в миллионных массах, милитаризуются даже свободные ощущения, идеи, ужасающая механическая система дальнобойных орудий смерти находит отвратительное подобие в системе телеграфных агентств, мечущих искры лжи во все страны и за океан. Впервые наука, поэзия, искусство, философия становятся столь же подвластными войне, как и техника: на амвонах и кафедрах, в исследовательских институтах и лабораториях, в редакциях и в комнатах поэтов по единой незримой системе создается и распространяется одна лишь ненависть. Апокалиптическое предвидение пророка превзойдено.
Поток ненависти и крови, какого никогда не знала эта старая, до глубочайших недр насыщенная кровью земля, затопляет страну за страной. И Ромен Роллан вспоминает тысячелетний миф: он знает, что нельзя спасти растерянный мир, обреченное поколение от его безумия. Нельзя потушить мировой пожар дуновением человеческих уст, голыми земными руками. Можно лишь пытаться помешать другим подливать масло в это пламя, можно лишь хлестать этих злодеев насмешкой и презрением. И можно построить ковчег, чтобы спасти от потопа лучшие духовные драгоценности уничтожающего себя поколения и передать их грядущим, как только улягутся волны ненависти. Можно воздвигнуть над эпохой знак, по которому верующие узнают друг друга, — храм согласия, построенный среди кровавых полей народов и в то же время возвышающийся над ними.
Посреди ужасающих сооружений генеральных штабов, техники, лжи, ненависти, мечтает Роллан о другом сооружении: о единении свободных умов Европы. Поэты, ученые должны служить ковчегом, хранителями справедливости в эти дни бесправия и лжи. В то время как массы, обманутые словами, неистовствуют друг против друга в слепой ненависти, художники, поэты, ученые Германии, Франции, Англии, которые не знают друг друга, но все же десятки лет работают над совместными открытиями, усовершенствованиями, идеями, могли бы соединиться в трибунал духа, который с научной серьезностью вытравил бы всю ложь в их народах и обменивался бы возвышенными мыслями о своих нациях. Ибо глубочайшей надеждой Роллана было, что великие художники, исследователи не солидаризуются с преступлениями войны, не спрячут свободу своей совести за удобным «right or wrong — шу country» 76 76 Права или неправа — но моя страна (англ).
. Уже сотни лет все люди интеллекта, за немногим исключением, признают недопустимость войны. Из глубины Китая, борющегося с монгольской жаждой власти, уже почти тысячу лет назад гордо взывал Ли Тай Пе:
«Проклятие войне! Проклятие делу оружия! Мудрецу нечего делать с их безумием».
И это изречение «мудрецу нечего делать с их безумием» проходит незримым припевом во всех высказываниях мыслящих людей европейской культуры. В письмах, написанных по-латыни, — на языке, символически свидетельствующем о сверхнациональном единстве, — великие гуманисты во время войны делятся своими заботами и философскими утешениями по поводу смертоносного безумия людей; от лица немцев восемнадцатого века яснее всех говорит Гердер: «Отечества против отечеств в кровавой борьбе — это самое ужасное варварство»; Гете, Байрон, Вольтер, Руссо объединяются в презрении к бессмысленной резне. Так и теперь, полагает Роллан, лучшие умы, великие, непогрешимые исследователи, самые человечные среди поэтов должны объединиться, возвыситься над отдельными заблуждениями своих наций. Он, конечно, не смеет надеяться, что многие сумеют вполне освободиться от страстности эпохи, но ценность духовных явлений измеряется не количеством: их законы не похожи на законы армии. И здесь приобретают глубокое значение слова Гёте: «Все великое и разумное существует только в меньшинстве. Никогда нельзя рассчитывать на то, чтобы разум стал популярным. Страсти и чувства могут стать популярными, но разум всегда останется достоянием нескольких избранных». Это меньшинство благодаря своему авторитету может стать духовной силой. И прежде всего оно может стать оплотом против лжи. Если бы руководящие свободные умы всех наций соединились, например в Швейцарии, и боролись бы там против всякой несправедливости, в том числе и творимой их собственным отечеством, то создалось бы наконец убежище, свобода для истины, одинаково порабощенной и закованной во всех странах, Европа имела бы клочок общей родины, человечество — искру надежды. Выяснением согласий и разногласий лучшие умы могли бы дополнить друг друга, и это взаимное просветление людей, свободных от предрассудков, было бы светом для мира.
Читать дальше