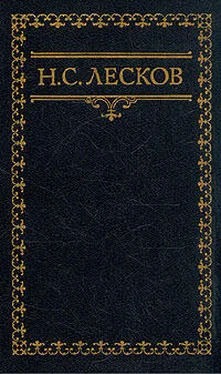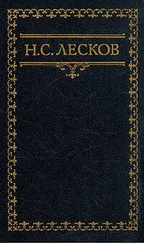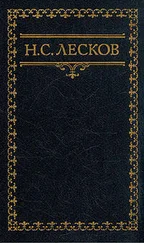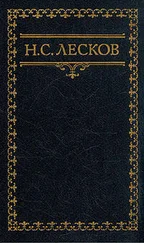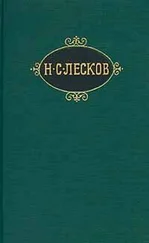«Глядите, инпузории, в пространство, что я могу: я не плотец Скопицын, который с деньгами запирался, а я со всеми увертюрами живу!» И сейчас и начнет свою первую обыкновенную увертюру: всю скатерть с приборами на пол, а платить – «убирайся к черту».
Того и гляди, что его когда-нибудь отколотят.
Я это и говорю его сестрам: «Как хотите, а, по-моему, его надо молитвою избавить от его бесстыдства», и Афросинья сейчас этому и обрадовалась; но он сам ни за что и слышать не хотел о молитвах.
«Постанов вопроса, – говорит, – такой: чту я – порченный, что ли, чтобы меня отмаливать? Я в духовных делах сам все знаю: я пил чай у преосвященного Макариуса и у патриарха в Константинополе рахат-лукум ел, и после них мне теперь в молитвах даже сам Мономах не может потрафить».
Разумеется, надо было сразу не пощадить на самое выдающееся, но вдова Маргарита Михайловна Степенева хоть и богачка, а замялась в неопределенном наклонении. Я вашего капитала, разумеется, вполне не знаю…
– Это вам и не надо знать, – оторвала Аичка, – вы ведите свои истории, а меня врасплох не испытывайте.
– Конечно. Я только так к слову сказала, я и не любопытна, но все равно на то же вышло. У Маргариты Степеневой, как я вам сказала, есть дочь Клавдия, молодая и прекрасивая этакая девица, собой видная, – красоты вид вроде англичанского фасона, но с буланцем… Воспитывалась она в иностранном училище для девиц женского пола вместе с одною немочкою и сделалась ее заковычным другом, а у той был двоюродный ее брат, доктор Ферштет; он, этот Ферштет, ее и испортил.
– Спутал? – спросила живо Аичка.
– Нет, – отвечала Марья Мартыновна, – спутать он ее не мог, потому что она бесчувственная, но разные пустые мысли ей вперил.
– Про что же?
– Да вот, например, насчет повсеместного бедствия людей. Сам он такой неслыханный оригиналец был, что ничего ему не нужно; так и назывался: «бессчетный лекарь». Ко всем он шел, а что ему кто заплатит или даже ничего не заплатит, это ему все равно, всех одинаково лечил и к бедным даже еще охотнее ходил и никогда не отказывался, а если дадут, так он сунет в карман и не считает, чтобы не знать, кто сколько дал. Вот он ее этим безразличием пленил и к такой простоте ее свел, что она обо всем образе жизни людей стала иначе думать, и все она начала желать чего-то особенного, чего невозможно и что всех огорчает.
– Непочтительная, что ли, стала?
– Нельзя даже понять – как она, почтительная или непочтительная, но только стало ей нравиться все удивительное. Вот этот ее подругин брат в ниверситете учился весь свой курс вышел, а служить нигде не захотел. Все этим огорчились, а ей это хорошо.
– Отчего же он служить не пошел?
– Так рассудил, что «на службе, говорит, можно получать различные поручения, каких я делать не хочу, надо в пустяках для угождения много время тратить, и уважать, кого не стоит, и бояться, как бы с дурной стороны не представили, – а я-де ни с кем ни в какую общественную историю попадать не хочу, а хочу лучше сам по своим понятиям людям услуживать». И так без всяких чинов и остался и всю зиму и лето в одной прохладной шинелишке ко всем бедным ходил, пока в прошлом году простудился и умер и семью как есть ни с чем оставил. Спасибо, немцы при похоронах сговорились между собою и все семейство устроили. По Клавдинькиному это все и превосходно, и Клавдинька как только с ним познакомилась, так сделалась от всех своих семейных большая скрытница и все начала Евангелие читать и все читала, читала, а потом все наряды прочь и начала о бедных убиваться. Сидит и думает. Спросишь: «Что ты все думаешь? чего тебе недостает?» А она отвечает: «У меня все есть и даже слишком больше, чем надобно, но отчего у других ничего нет необходимого?» Ей скажешь: «Что же тебе до этого? это от бога так, чтобы было кому богатым людям служить и чтобы богатые имели кому от щедрот своих помогать», – а она головою замахает и опять все думает и доведет себя до того, что начнет даже плакать.
– О бедных? – воскликнула Аичка.
– Да!
– Что же, они ей лучше богатых, что ли?
– И я это самое ей говорила: чего? Если тебе жаль, поди в церковь и подай на крыльце. От сострадания нечего плакать. А она отвечает: «Я не от сострадания плачу, а от досады, что глупа и зла и ничего придумать не могу». Ну, и стала все думать и придумала.
Аичка сказала:
– Это интересно.
Стала она так жить, что начала не надевать на себя ни золота, ни дорогих нарядов. «Для чего мне это? – говорит, – это совсем ненужное и нисколько не приятно и не весело; да это даже и иметь стыдно».
Читать дальше