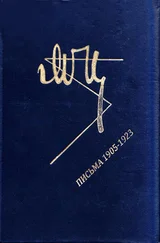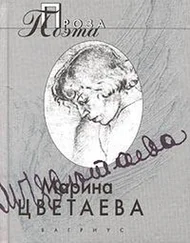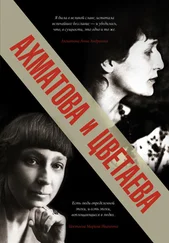На смену Бенар – элегическое появление Мальвины. У нее был альбом, и поэты вписывали в него стихи, – не какие-нибудь, и не какое-нибудь, – мне посчастливилось открыть его на изысканно-простом посвящении Вячеслава. (“Вячеслав” не из короткости с поэтом и не из заглазной фамильярности, – из той же ненужности этому имени фамилии, по которой фамилия Бальмонт обходится без имени. Вячеслав покрывает Иванова, как Бальмонт Константина. Иванов вслед за Вячеславом – то же, что Романов вслед за монархом – революционный протокол.) Итак, перед входящим во вкус залом элегическая ручьевая ивовая Мальвина. – О чем? – О ручьях и об ивах, кажется, о беспредметной тоске весны. (Брюсов, Брюсов, где же пресловутые любовь и страсть? Я – Белую Гвардию, Адалис – описательное, Бенар – машины, Мальвина – ручейки (причем все, кроме меня, неумышленно!). Уж не есть ли ты сам – та женщина в единственном числе, и не придется ли тебе, во оправдание слов твоих, выступать после девяти муз – десятой?)
Стихов лихорадочной меховой красавицы мне услышать не довелось – не думаю, чтобы кокаин располагал к любовному – дослушав воркование мальвининых струй, пошла проведать тотчас же по выступлении исчезнувшую Адалис. Когда я вошла, товарищ Адалис лежала на скамейке, с вострия лакированной туфельки по вострие подбородка укутанная в подобие шубы. Вид был дроглый и невеселый. “Ну, как”? – “Всё читают”. – “А В<���алерий> Я<���ковлевич>?” – “Слушает”. – “А зал?” – “Смотрит”. – “Позор?” – “Смотрины”.
Закурили. Зубы тов. Адалис лязгали. И внезапно, сбрасывая шубу: “Вы знаете, Ц<���ветае>ва, мне кажется, что у меня начинается”. – “Воображение”. – “Говорю вам, что у меня начинается”. – “А я говорю, что кажется”. – “Откуда вы знаете”? – “Слишком эффектно: вечер поэтесс – и... Вроде папессы Жанны. Это бывает в истории, в жизни так не бывает”. – Смеемся. И через минуту Адалис певуче: “Ц<���ветае>ва, я не знаю, начинается или нет, но можете вы мне оказать большую услугу?” – Я, что-то чуя: “Да!” – “Так подите скажите В<���алерию> Яковлевичу), что я его зову – срочно”. – “Прервав чтение”? – “Это уж – как хотите”. – “Адалис, он рассвирепеет”. – “Не посмеет, он вас боится, особенно после сегодняшнего”. – “Это ваше серьезное желание”? – “Serieux comme la mort” [46].
Вхожу в перерыв рукоплеска собольехвостой, отзываю в сторону Брюсова и, тихо и внятно, глаза в глаза: “Товарищ Брюсов, товарищ Адалис просит передать вам, что у нее, кажется, начинается”. Брюсов, бровями: “?” – “Чт o – не знаю, передаю, как сказано, просит немедленно зайти: срочно”.
Брюсов отрывисто выходит, вслед не иду, слушаю следующую, одну из тех, что испарились. (Кстати, нерусскость имен и фамилий: Адалис, Бенар, Сусанна, Мальвина, полька Поплавская, грузинская княжна на “или” или “идзе”. Нерусскость, на этот раз совпавшая с неорганичностью поэзии. Совпадение далеко не заведомое: Мандельштам, например, не только русский, но определенной российской поэтической традиции – поэт. Державиным я в 1916 г. его окрестила первая:
Что В a м, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!
И тот же Брюсов, купеческий сын, москвич, ни Москвы, ни России ни краем не отразивший. Национальность не ничто, но не всё.)
Через четыре четверостишия явление Брюсова, на этот раз он – ко мне: “Г<���оспо>жа Цветаева, товарищ Адалис просит вас зайти...” – тоже тихо и внятно, тоже глаза в глаза. Вхожу: Адалис перед зеркалом пудрит нос. “Это ужасный человек, ничему не верит”. – Я: “Особенно, если каждый день “начинается”. Адалис, капризно: “Почему я знаю? Ведь может же, ведь начнется же когда-нибудь!.. Я его посылаю за извозчиком – не идет: “Мое место на эстраде”. А мое – над”. – “Давайте, схожу?” – “Цветаева, миленькая, но у меня ни копейки на извозчика, и мне, действительно, скверно”. – “Взять у Брюсова?” Она испуганно: “Нет, нет, сохрани Бог!”
Вытрясаем, обе, содержание наших кошельков, – безнадежно, не хватит и на четверть извозчика.
Вдруг – порыв ветра, надушенного, многоречивого и тревожного. Это собольехвостая влетает, в сопровождении молодого человека в куртке и шапке с ушами. Жемчуга на струнной шее гремят, соболиные хвосты летят, летят н оленьи уши: “Je vous assure, je vous assure, je vous jure...” [47]. Чистейшая французская речь с ее несравненным – в горле или в нёбе? нет, в веках и в крови гнездящимся – жемчужным, всю славянскую душу переворачивающим – эр. “Mais се que je voudrais bien savoir, Madame, это уши задыхаются, – si c’est vous ou votre man qui m’avez vendu?” [48]Как слепые, как одержимые, не слышат, не видят. Молодой человек в последней степени неистовства, женщина сдерживается, только пристук лака о бетон. (Была бы змея, стучал бы самый хвостик.) “Это М, – уже забыв об извозчике, нашептывает мне в ухо Адалис, – она – баронесса, недавно вышла замуж за барона, а молодой человек...”
Читать дальше