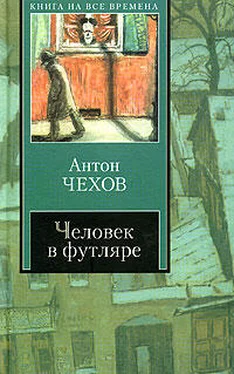Купе первого класса.
На диване, обитом малиновым бархатом, полулежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый веер трещит в ее судорожно сжатой руке, pince-nez то и дело спадает с ее хорошенького носика, брошка на груди то поднимается, то опускается, точно ладья среди волн. Она взволнована… Против нее на диванчике сидит губернаторский чиновник особых поручений, молодой начинающий писатель, помещающий в губернских ведомостях небольшие рассказы или, как сам он называет, «новэллы» – из великосветской жизни… Он глядит ей в лицо, глядит в упор, с видом знатока. Он наблюдает, изучает, улавливает эту эксцентрическую, загадочную натуру, понимает ее, постигает… Душа ее, вся ее психология у него как на ладони.
– О, я постигаю вас! – говорит чиновник особых поручений, целуя ее руку около браслета. – Ваша чуткая, отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта… Да! Борьба страшная, чудовищная, но… не унывайте! Вы будете победительницей! Да!
– Опишите меня, Вольдемар! – говорит дамочка, грустно улыбаясь. – Жизнь моя так полна, так разнообразна, так пестра… Но главное – я несчастна! Я страдалица во вкусе Достоевского… Покажите миру мою душу, Вольдемар, покажите эту бедную душу! Вы – психолог. Не прошло и часа, как мы сидим в купе и говорим, а вы уже постигли меня всю, всю!
– Говорите! Умоляю вас, говорите!
– Слушайте! Родилась я в бедной чиновничьей семье. Отец добрый малый, умный, но… дух времени и среды… vous comprenez, [1]я не виню моего бедного отца. Он пил, играл в карты… брал взятки… Мать же… Да что говорить! Нужда, борьба за кусок хлеба, сознание ничтожества… Ах, не заставляйте меня вспоминать! Мне нужно было самой пробивать себе путь… Уродливое институтское воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости, первая робкая любовь… А борьба со средой? Ужасно! А сомнения? А муки зарождающегося неверия в жизнь, в себя?.. Ах! Вы писатель и знаете нас, женщин. Вы поймете… К несчастью, я наделена широкой натурой… Я ждала счастья, и какого! Я жаждала быть человеком! Да! Быть человеком – в этом я видела свое счастье!
– Чудная! – лепечет писатель, целуя руку около браслета. – Не вас целую, дивная, а страдание человеческое! Помните Раскольникова? Он так целовал.
– О, Вольдемар! Мне нужна была слава… шум, блеск, как для всякой – к чему скромничать? – недюжинной натуры. Я жаждала чего-то необыкновенного… не женского! И вот… И вот… подвернулся на моем пути богатый старик-генерал… Поймите меня, Вольдемар! Ведь это было самопожертвование, самоотречение, поймите вы! Я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешествовать, делать добро… А как я страдала, как невыносимы, низменно-пошлы были для меня объятия этого генерала, хотя, надо отдать ему справедливость, в свое время он храбро сражался. Бывали минуты… ужасные минуты! Но меня подкрепляла мысль, что старик не сегодня-завтра умрет, что я стану жить, как хотела, отдамся любимому человеку, буду счастлива… А у меня есть такой человек, Вольдемар! Видит бог, есть!
Дамочка усиленно машет веером. Лицо ее принимает плачущее выражение.
– Но вот старик умер… Мне он оставил кое-что, я свободна, как птица. Теперь-то и жить мне счастливо… Не правда ли, Вольдемар? Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его, но… нет! Вольдемар, слушайте, заклинаю вас! Теперь-то и отдаться любимому человеку, сделаться его подругой, помощницей, носительницей его идеалов, быть счастливой… отдохнуть… Но как все пошло, гадко и глупо на этом свете! Как все подло, Вольдемар! Я несчастна, несчастна, несчастна! На моем пути опять стоит препятствие! Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко! Ах, сколько мук, если б вы знали! Сколько мук!
– Но что же? Что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите! Что же?
– Другой богатый старик…
Изломанный веер закрывает хорошенькое личико. Писатель подпирает кулаком свою многодумную голову, вздыхает и с видом знатока-психолога задумывается. Локомотив свищет и шикает, краснеют от заходящего солнца оконные занавесочки…
1883
Вы понимаете (фр.)