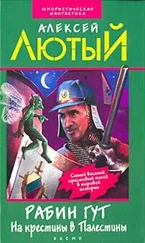Гийеме [1] Гийеме — пейзажист Жан-Батист-Антуан Гийеме (1842—1918), друг Мопассана; имя его упоминается в «Милом друге» как автора одной из приобретенных Вальтером картин.
У дверей фермы выжидательно толпились по-праздничному разряженные мужчины. Майское солнце заливало ярким светом распустившиеся яблони, круглые кроны которых, словно гигантские душистые бело-розовые букеты, раскинули над двором тенистый цветочный навес. С ветвей, как снежинки, беспрерывно сыпались крошечные лепестки; они порхали, кружились и падали в густую траву, где сверкали огоньки одуванчиков и пятнами крови багровели маки.
На куче навоза дремала толстобрюхая свинья с набухшими сосцами; вокруг нее копошился целый выводок поросят с хвостиками, закрученными, как веревочки.
Неожиданно за деревьями, отделявшими одну ферму от другой, заблаговестил церковный колокол. Его металлический голос бросал в лучезарное небо далекий слабый призыв. Ласточки стрелою пронзали голубой простор, ограниченный с двух сторон высокими, замершими в неподвижности буками. К тонкому и сладкому дыханию яблонь примешивался порой запах хлева.
Один из мужчин, ожидавших во дворе, повернулся к дому и крикнул:
— Поторапливайся, Мелина! Уже звонят.
Это был рослый крестьянин лет тридцати, которого еще не согнул и не изуродовал бесконечный труд земледельца. Отец его, кривоногий, узлистый, как ствол дуба, старик с шишковатыми запястьями, поддакнул:
— Ох, эти женщины! Никогда-то они не укладываются в срок.
Два других сына прыснули со смеху, и один из них, повернувшись к старшему, тому, что первым возвысил голос, посоветовал:
— Сходи за ними, Полит, не то они полдня прокопаются.
Молодой человек вошел в дом.
Стая уток, остановившаяся поблизости от крестьян, закрякала, замахала крыльями и медленно, вперевалку, проследовала к пруду.
Наконец в открытых дверях показалась толстая женщина с двухмесячным младенцем на руках. Белые завязки высокого чепца спускались ей на спину, контрастируя с блестящей огненно-красной шалью; к объемистому животу она прижимала малыша, завернутого в чистые пеленки.
Потом появилась молодая мать, высокая, крепкая женщина лет восемнадцати, не больше; свежая, улыбающаяся, она держала мужа под руку. За ней вышли обе бабушки, морщинистые, как увядшее яблоко, и отмеченные печатью застарелой усталости: терпеливый тяжелый труд давным-давно искривил им спины. Одна из них, вдова, взяла под руку деда, ожидавшего у дверей, и вместе с ним двинулась во главе процессии, сразу после повитухи, которая несла ребенка. За ними тронулись остальные члены семьи. Самые младшие несли кульки с карамелью.
Вдалеке по-прежнему заливался небольшой колокол, настойчиво призывая в церковь долгожданного, еще беспомощного малютку. Мальчишки взбирались на откосы межевых рвов, взрослые подходили к заборам, батрачки опускали на землю ведра с молоком и, стоя между ними, глазели на крестины.
Повитуха, вздымая свою живую ношу и обходя лужи, торжественно шествовала по дороге, которая пролегала между поросших деревьями холмов. Старики вышагивали церемонно, чуточку ковыляя, — ноги у них были больные, одеревеневшие; у парней на уме были танцы, и они пялились на девушек, сбегавшихся полюбоваться процессией; молодые родители выступали с серьезными лицами и важным видом — они ведь сопровождают того, кто когда-нибудь сменит их и продолжит род Дантю, тех самых Дантю, которых так хорошо знают во всей округе.
Выбравшись на равнину, шествие направилось прямиком через поля — обходить их по дороге было бы слишком долго.
Впереди уже виднелась церковь с островерхой колоколенкой, под черепичной кровлей которой, в сквозном проеме, что-то быстро моталось взад и вперед, то выглядывая из этой узкой прорези, то вновь скрываясь. Это и был колокол, что без устали звонил, призывая новорожденного в первый раз посетить дом господень.
За людьми увязалась собака. Она прыгала вокруг них, и они бросали ей конфетки.
Двери церкви были распахнуты. У алтаря ожидал священник, высокий рыжий малый, худощавый, но крепкий и тоже из Дантю: ребенку он приходился дядей, его отцу — братом. Он совершил обряд и нарек племянника Проспером-Сезаром; отведав крестильной соли, тот расплакался.
После службы семейство подождало на паперти, пока аббат снимет стихарь, и двинулось к дому. Теперь шли быстро: все заждались обеда.
Читать дальше