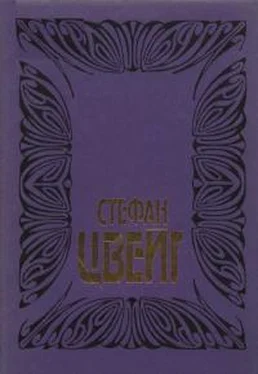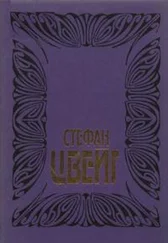Когда диктатура только-только зарождалась, сопротивление имело еще известную силу, ведь свободные души пока не связаны, а независимые — не изгнаны; республикански настроенные женевцы открыто говорят, что не желают, чтобы с ними обращались «как с грабителями». Бюргеры целыми улицами, и прежде всего с Rue des Allemands [84] Немецкой улицы (фр.).
, отказываются дать требуемую от них присягу, они мятежнически ропщут, заявляя, что не станут присягать, не станут по приказу только что появившегося здесь нищего француза покидать родной город. Правда, Кальвину удается понудить преданный ему Малый совет к заявлению, что отказавшиеся принести клятву будут изгнаны, но проводить в жизнь эту непопулярную среди жителей города меру наказания магистрат все же не решается. Результаты выборов в магистрат ясно показывают, что большая часть граждан города крайне недовольна произволом Кальвина. На выборах в феврале 1538 года его верные последователи теряют большинство; еще раз демократия Женевы показала свою способность защищаться от автократических притязаний Кальвина.
* * *
Кальвин стремительно рвется вперед. Политические идеологи всегда недооценивают сопротивление, основанное на инертности человеческой природы, всегда они считают, что решающие новшества в реальной действительности могут быть осуществлены так же быстро, как в сфере их умозаключений. Благоразумие должно было бы подсказать Кальвину, что, поскольку ему не удалось привлечь на свою сторону светские власти, следует стать помягче, его дело все еще популярно, да и вновь избранный муниципалитет не враждебен ему, а лишь осторожен, осмотрителен. Даже самые ярые противники Кальвина очень скоро поняли, что в основе его фанатизма лежит страстное стремление к насаждению в городе нравственности, что движущая пружина этого необузданного человека — великая идея, а не узкое честолюбие. Его товарищ по борьбе — Фарель — все еще кумир молодежи и улицы; так что напряженность можно было бы снять легко, обладай Кальвин несколько большим дипломатическим благоразумием и пожелай приспособить свои крайние, уязвимые с точки зрения установившихся в Женеве традиций требования к более умеренным взглядам горожан.
Но это невозможно. Препятствие этому — гранитная сущность Кальвина, его железная твердость. Ничто на протяжении всей его жизни не было так чуждо этому зелоту, как соглашения, компромиссы. Кальвин не знает компромиссных решений; ему известно только одно решение — его собственное. Или все, или ничего, полная авторитарность или полная покорность. Никакого компромиссного решения он никогда не примет, ибо власть и сохранение власти настолько органично присущи ему, что ему и в голову не может прийти мысль, что кто-нибудь другой также имеет какие-то права, такое он понять не в состоянии.
Для Кальвина остается аксиомой то, что ему надлежит учить, а другим — учиться у него; в честной убежденности он говорит дословно следующее: «Мне от Бога дано то, чему я учу, и это укрепляет мое убеждение в собственной правоте». С ужасающе зловещей самонадеянностью он приравнивает свои утверждения к абсолютной истине: «Dieu m’a fait la grâce de declarer ce qu’est bon et mauvais» [85] Богом ниспослано мне право объявлять, что плохо, а что хорошо (фр.).
, и каждый раз этот одержимый чувством собственной непогрешимости человек впадает в бешенство, если кто-нибудь решится высказать свое мнение, расходящееся с его, Кальвина, мнением.
Возражение порождает у Кальвина нечто вроде нервного припадка, душевные волнения до предела раздражают его тело, вызывая спазматические боли в желудке, им овладевает жестокая ярость, а если противник к тому же еще обстоятельно и научно обоснует свои доводы, то сам факт, что кто-то решается думать иначе, этого человека превращает в личного смертельного врага Кальвина, а следовательно, во врага всего человечества, во врага Бога. Шипящими змеями, лающими собаками, бестиями, негодяями, сатанинскими прислужниками — так именует выдающихся гуманистов и богословов своего времени этот в частной жизни чересчур умеренный человек; даже чисто академические возражения Кальвину воспринимаются им как оскорбление в слуге Божьем «чести Божьей», едва кто-либо решится назвать проповедника St. Pierre ad personam [86] Св. Петра лично (лат.).
властолюбивым, авторитарным, это означает, что «церковь Христова находится в опасности».
Кальвин признает лишь такой диалог, когда собеседник принимает его, Кальвина, мнение: всю жизнь этот, в остальном прозорливый, человек ни мгновения не сомневается в своем, исключительно своем праве излагать слово Божье, считая его в своем изложении единственно истинным. Но как раз благодаря этой твердолобой вере в непогрешимость своих взглядов, благодаря этой проповеднической одержимости, этой грандиозной тирании идеи Кальвин победил в реальной действительности; лишь эта гранитная незыблемость, эта ледяная, нечеловеческая косность объясняет тайну его политического триумфа. Ибо только такая одержимость, такая чудовищно ограниченная убежденность в правоте своих догматов делает Кальвина вождем. Так, легко поддающееся внушению человечество никогда не подчинялось терпеливым, снисходительным праведникам, всегда — великим мономанам, которым доставало решимости провозглашать свою правду как истину в конечной инстанции, свою волю — как основную формулировку мировых законов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу