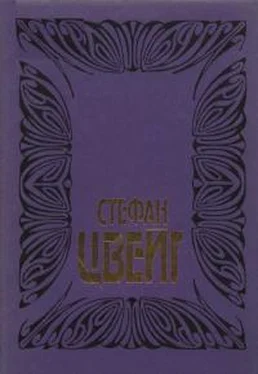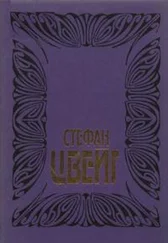Вести дискуссию более честно, пожалуй, и невозможно. Кальвин опубликовал книгу, в которой однозначно изложил свою точку зрения, и Кастеллио пользуется этим доступным всем документом, как следователь — записями протоколов допроса обвиняемого. Слово за словом переписывает он еще раз всю книгу Кальвина, чтобы никто не мог утверждать, что он как-то исказил или изменил мнение своего противника; и чтобы заранее устранить у читателя подозрение, что он намеренными сокращениями извратил текст Кальвина, он нумерует каждую фразу Кальвина. Этот второй процесс по делу Сервета ведется, следовательно, значительно более строго, более справедливо, чем велся первый процесс в Женеве, когда обвиняемый был брошен в сырой подвал и ему было отказано во всякой защите. Свободно, на виду у всего гуманистического мира должно быть вынесено решение по causa Сервета.
Факты очевидны и бесспорны. Приговоренный к смерти по указанию Кальвина женевским магистратом, охваченный пламенем костра, Сервет не признался в приписываемых ему преступлениях и, умирая в ужасных муках, кричал о своей невиновности. И Кастеллио задает вопросы: какие же преступления, собственно, Сервет совершил? Как смел Жан
Кальвин, облеченный лишь духовной, а несветской властью, передать магистрату рассмотрение чисто богословских вопросов? Имел ли женевский магистрат право приговаривать Сер-вета к смерти за эти якобы преступления? И наконец, в соответствии с каким авторитетом и на основани какого закона объявлен смертный приговор этому иностранному богослову?
Для того чтобы ответить на первый вопрос, Кастеллио исследует аргументы Кальвина, изложенные в «Защите истинной веры и триединства против ужасного еретика Сервета», чтобы установить, в каких, собственно, преступлениях он обвиняет Сервета. И не находит никакой иной вины, кроме того, что, по представлениям Кальвина, Сервет «по необъяснимой причине дерзко извратил Евангелие и впал в предосудительные новшества». Кальвин, следовательно, обвиняет Сервета не в чем ином, как в самостоятельном, самовольном изложении Библии, в том, что Сервет пришел к выводам, отличным от тех, к которым пришел в своем вероучении он, Кальвин.
На это обвинение Кастеллио сразу же отвечает. Был ли Сервет единственным, кто в рамках Реформации пришел к подобным своевольным толкованиям Евангелия? И кто решится утверждать, что этим он погрешил против истинного смысла нового учения? Не было ли право на индивидуальное толкование Библии вообще основным требованием Реформации, и что иное сделали вожди евангелической церкви, кроме того, как записали эти новые толкования, облекли их словами? И не Кальвин ли со своим другом Фарелем были самыми смелыми, самыми решительными при этой перестройке, обновлении церкви, причем «он, Кальвин, не только предался этим чрезмерным новшествам, он даже принудил общину принять их и всем показал, что противоречить ему опасно. За десять лет он de facto ввел в христианское вероучение новшеств больше, чем католическая церковь — за шесть столетий»; кто-кто, а уж Кальвин в первую очередь как самый смелый среди реформаторов не имеет права называть преступлением новое толкование Библии в протестантской среде, не имеет права никого осуждать за него.
Но, исходя из собственной непогрешимости, Кальвин признает лишь свое мнение правильным, мнение же других — ложным. И Кастеллио тотчас же задает свой второй вопрос: кто дал Кальвину право судить о том, что истинно и что ложно? «Всех людей духа, не поддерживающих его доктрину, Кальвин полагает впавшими в заблуждение, оказавшимися в плену ложных мыслей. Поэтому о вопросах веры он никому не дает права что-либо писать или говорить и отказывает каждому в праве считать верными высказанные им мнения. Но Кастеллио может согласиться с тем, что человек или какое-либо сообщество людей могут сказать: только наша истина — истинна, все другие истины — заблуждение. По Кастеллио, все истины, и особенно религиозные, многозначны и поэтому уязвимы. «Следовательно, самонадеянностью было бы спорить о тайнах, принадлежащих одному лишь Богу, полагая, что мы осведомлены о его скрытых от всех планах, высокомерием было бы делать вид, что мы знаем о том, что принципиально знать не можем, и морочить этим утверждением людям головы».
С сотворения мира все беды исходят от доктринеров, нетерпимо объявляющих свои мнения, свое мировоззрение единственно истинным. Только эти фанатики стандартного мышления и стандартного образа действий своим упрямым воинственным задором вносят в мир раздор, сеят смуту на земле и вместо естественного сосуществования идей насаждают взаимный антагонизм, смертоносные распри. И Кастеллио обвиняет Кальвина в подстрекательстве и духовной нетерпимости. «Все секты строят свои религии по слову Божьему, и каждая секта считает свою религию истинной. По Кальвину, следовательно, каждая секта должна преследовать другие секты. Кальвин, разумеется, утверждает, что его учение истинно. Но другие секты говорят о своем учении то же самое. Он говорит: другие заблуждаются; но другие утверждают то же о нем. Кальвин хочет быть судьей; другие — тоже. Можно ли при этом прийти к решению?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу