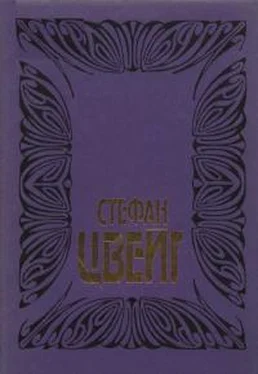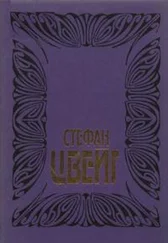Гуманные личности всегда слишком быстро смиряются, облегчая тем самым насильникам их гнусную деятельность; все они ведут себя как этот благородный, но не воинственный Церхинтес: они молчат и молчат, эти гуманисты, люди интеллекта, ученые; одни — потому, что им противны свары, другие — из страха, что их самих сочтут еретиками, если они лицемерно не признают казнь Сервета благородным деянием. И уже создается впечатление, будто чудовищное требование повсеместного, всеобщего преследования инакомыслящих ни у кого не встретит отпора.
Но неожиданно раздается голос — Кальвин хорошо знает и ненавидит его лютой ненавистью, — чтобы открыто от имени поруганной человечности обвинить Кальвина в преступлении, в убийстве Мигеля Сервета, — голос Кастеллио, которого не запугали никакие угрозы женевского насильника, человека, готового отдать свою жизнь, чтобы спасти жизнь бесчисленному количеству людей.
* * *
В каждой духовной борьбе наиболее стойкие, наиболее смелые борцы — не те, кто легко и страстно начинает бой, а люди внутренне миролюбивые, в которых намерение и решимость зреют медленно, которые долго колеблются, прежде чем выступить. Только исчерпав все другие возможности взаимопонимания и поняв неизбежность столкновения, с тяжелым, безрадостным сердцем идут они в вынужденное наступление; но именно те, кто с большим трудом решается на битву, оказываются более убежденными и более решительными.
Так и Кастеллио. Истинный гуманист, он не прирожденный боец, не сторонник борьбы; предупредительность, стремление к умиротворению, к примирению бесконечно ближе его мягкой, глубоко религиозной натуре. Как и его духовный отец Эразм, он прекрасно знает, что любая истина многообразна и многозначна, и не случайно своему самому значительному произведению он дал заглавие: «De arte dubitandi» («О высоком искусстве сомневаться»). Но это постоянное сомнение в себе, постоянная проверка себя никоим образом не делают Кастеллио холодным скептиком; его осторожность учит его лишь терпимости ко всем другим мнениям, и он всегда предпочитает молчание поспешному вмешательству в спор других.
Добровольно пожертвовав работой и положением, он ради сохранения внутренней свободы полностью отстранился от политики, чтобы имевшим огромное значение переводом Библии на два языка более действенно служить Евангелию. Базель, этот последний островок религиозной свободы, стал для него спокойным приютом; здешний университет еще бережет наследие Эразма; город стал убежищем европейских гуманистов, преследуемых церковными диктатурами. Здесь живут и Карлштадт, изгнанный Лютером из Германии, и Бернардо Оки-но, бежавший от римской инквизиции из Италии, здесь Кастеллио, вытесненный из Женевы Кальвином, здесь Лелио Социн, и Курионе, и бежавший из Нидерландов под чужим именем анабаптист Давид де Йорис. Одинаковые судьбы, одинаковые преследования связывают этих эмигрантов, хотя ничего общего в богословских взглядах у них нет; чтобы общаться друг с другом, вести мирные беседы, гуманистам и не нужна систематическая, всеобъемлющая унификация мировоззрений.
Все эти люди, не желающие служить никакой моральной диктатуре, ведут в Базеле тихое приватное существование ученых, не забрасывают мир трактатами и брошюрами, не разглагольствуют на лекциях или диспутах, не сколачивают ни союзов, ни сект; эти одинокие «ремонстранты», эти «возражатели» (так позже назовут их, протестующих против любого догматического террора) связаны братскими узами совместной скорби по поводу растущего конформизма и развивающейся регламентации мышления.
Для этих независимых мыслителей сожжение Сервета и кровожадный защитительный памфлет Кальвина означают объявление им войны. Гнев и ужас испытывают они от этого дерзкого вызова. Они прекрасно понимают — наступил решающий момент; если этот тиранический поступок останется без ответа, тогда свободному мышлению в Европе придет конец, тогда утвердится насилие. Значит, действительно, «однажды увидев свет», после Реформации, принесшей миру требование свободы совести, опять низвержение в темноту? Значит, действительно, как требует этого Кальвин, виселицей и мечом будут уничтожены все инакомыслящие христиане?
Не следует ли теперь, в этот опасный момент, до того как от костра на площади Шампель вспыхнут сотни других костров, твердо заявить, что нельзя преследовать, как диких зверей, и жестоко мучить до смерти, словно разбойников и убийц, людей, имеющих в духовных вопросах другое, чем у власть имущих, мнение. В этот ответственный, в этот самый ответственный час следует громко и отчетливо сказать миру, что любая нетерпимость ведет себя не по-христиански, а когда прибегает к террору — бесчеловечно; все они чувствуют это, сейчас должно быть произнесено громко и отчетливо слово в защиту преследуемых, слово — против преследующих.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу