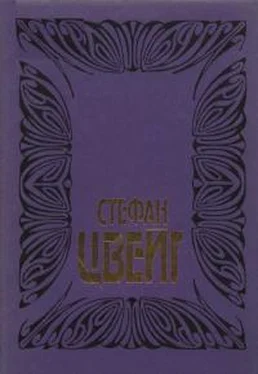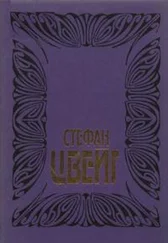Но Кальвин, опирающийся на Библию всегда, когда ему это особенно удобно, объявляет тем не менее физическое истребление инакомыслящих «святым» делом «властей». «Повинен был бы человек, не обнаживший меч, если б его дом оказался запятнан идолопоклонством и кто-либо из его домочадцев восстал против Бога, но несравненно более мерзкой была бы эта трусость со стороны властелина, пожелай он закрыть глаза, когда религия предается поруганию». Меч дан властям затем, чтобы они использовали его «во славу Божью» (всегда в своих призывах к насилию Кальвин злоупотребляет этими словами); он наперед оправдывает любой поступок, который свершается в набожном рвении, в saint zele.
Защита ортодоксии, истинной веры, должна, по Кальвину, рвать все кровные связи, все требования человечности; даже самого близкого своего родственника следует уничтожить, если сатана гонит его к отрицанию «истинной» религии, к ужасному кощунству — On ne lui fait point l’honneur qu’on lui doit, si on ne préfère son service à tout regard humain, pour n’épargner ni parentage, ni sang, ni vie qui soit et qu’on mette en oublie toute humanity quand il est question de combattre pour sa gloire [113] Если ему не воздают подобающей хвалы, если предпочитают служить человеку, а не Господу, если ради славы господней не откажутся от любого родства, от любой жизни, не преступят в себе человеческое (фр.).
.
Страшные слова, трагическое подтверждение того, как может фанатизм ослепить человека, в остальном трезво рассуждающего. Ибо с циничной откровенностью сказано здесь, что набожным, по Кальвину, можно считать лишь того, кто за «учение», за его, Кальвина, учение «tout regard humain», должен убить в себе все человеческие чувства, должен добровольно выдать инквизиции жену, друга, брата, весь свой род, едва они по какому-либо пункту или подпункту религиозного учения выскажутся иначе, чем это принято консисторией.
А для того, чтобы никто не восстал против этого кровожадного тезиса, Кальвин обращается к своему последнему, самому любимому аргументу — террору. Он заявляет, что каждый, защищающий еретика, каждый, простивший ему его ересь, сам становится еретиком и поэтому подлежит наказанию. Кальвин не терпит противоречий и хочет каждому, кто может решиться на возражения, заранее внушить страх, угрожая ему участью Сервета: либо молчи и беспрекословно слушайся, либо сам иди на костер! Раз и навсегда желает Кальвин покончить с мучительным для него обсуждением вопроса об убийстве Сервета.
Но обвиняющий голос убиенного не заглушить, как бы громко, как бы яростно Кальвин ни выкрикивал свои угрозы миру, и защитительное сочинение Кальвина с призывом к охоте на еретиков производит наисквернейшее впечатление; отвращение охватывает самых честных протестантов, им противно видеть инквизицию, защищаемую ex cathedra [114] С кафедры (лат.).
реформированной церкви.
Иные считают, что такой драконовский тезис, пожалуй, больше к лицу магистрату, нежели проповеднику слова Божьего, слуге Христа: великолепно звучит благородное и убедительное письмо Кальвину секретаря магистрата города Берна, Церхинтеса, который позже станет вернейшим другом и защитником Кастеллио. «Открыто утверждаю, — пишет он, — что и я принадлежу к тем, которые хотят возможно сильнее ограничить применение смертной казни для противников религиозного движения и даже для тех, кто желает остаться в своем заблуждении. Меня к этому мнению в особенности побудили не только те места Священного писания, которые убедительно говорят против применения насилия, но и отношение в нашем городе к анабаптистам. Я сам видел, как волокли на эшафот восьмидесятилетнюю женщину вместе с ее дочерью, матерью шестерых детей; эти женщины не совершили иного преступления, кроме отрицания догмата о крещении детей. Под впечатлением такого примера я страшусь, что судейские власти не будут держаться в строгих границах, в которые ты сам хотел бы их заключить, и за малые заблуждения станут карать, как за большие преступления. Поэтому я предпочел бы, чтобы власти оказались скорее повинными в избытке милосердия и снисхождения, чем в суровости меча… И по мне лучше пусть прольется моя кровь, чем я запятнаю себя кровью человека, смерть которого не безусловно заслужена им».
* * *
Так во времена фанатизма говорит маленький, незначительный секретарь магистрата и так думают многие: но все они только думают так, но не высказываются. Даже славный Церхинтес, как и его учитель Эразм, избегает открытого спора и, пристыженный, признается Кальвину, что сообщает ему свое мнение лишь письменно, публично же предпочел бы молчать. «Я не сойду на арену, пока совесть не понудит меня к этому. Вместо того чтобы развязывать споры и кого-нибудь при этом ненароком оскорбить, я предпочитаю остаться немым, пока моя совесть разрешает мне это».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу