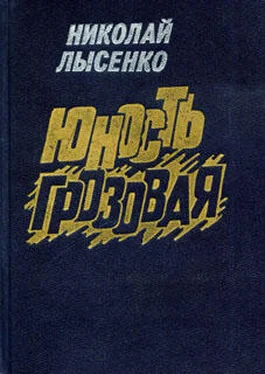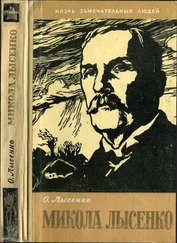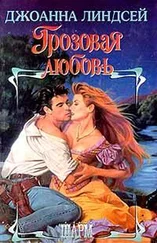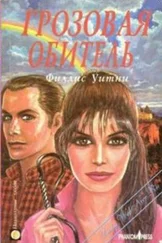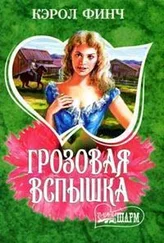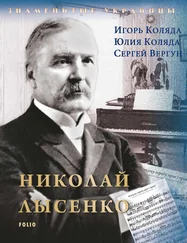Под вечер на небе появилась туча. Прохладный ветер зашуршал в соломе, потянул, словно поземку, полову. С каждой минутой туча приближалась, кучевые облака слева и справа от нее, как крылья, обнимали полнеба. Дождь крупными каплями посыпался на степь вначале робко, потом смелее иначал хлестать истосковавшуюся по влаге землю косыми потоками.
Через полчаса туча ушла, оставив в голубеющей вышине небольшие белые облачка да многоцветную радугу.
Колхозники собрались было уходить с тока, как вдруг увидели, что с запада к станице на небольшой высоте летят десятка два самолетов. Не долетев до станицы, самолеты круто изменили направление и начали заходить со стороны солнца. Пронзительный свист падающих бомб резанул слух. Притихшая степь вздрогнула, и эхо тоскливо застонало по балкам и оврагам» Станица окуталась дымом и пылью.
На току поднялся переполох. Заголосили женщины, растерянно засуетились старики и ребята. Усевшись на брички, многие помчались в станицу.
Но пока они ехали туда, там уже все закончилось.
Самолеты улетели. На станции догорали вагоны, дымились развалины домов неподалеку от вокзала. В воздухе пахло гарью. Клубы едкого дыма плыли над станицей, застилая вечернее солнце. Вокруг стало сумрачно.
* * *
Этой ночью ко двору Холодовых подошел человек. Осмотревшись по сторонам, он тихонько толкнул калитку, но она была заперта. Человек еще раз осмотрелся вокруг и, взявшись одной рукой за изгородь, легонько перемахнул через нее. Крадучись поднялся на крыльцо и с минуту стоял не шевелясь.
Ничто не нарушало тишины, лишь слышно было, как в хлеву Холодовых перхала овца. Человек осторожно постучал в дверь. Выждав немного, постучал еще раз. В коридоре раздались шаркающие шаги, невнятное бормотание.
— Кто там? — глухо спросил Холодов. (В эту ночь табун по его просьбе пас дед Лукич.)
— Открой, это я, — почти шепотом выдавил стоявший на крыльце.
Холодов помолчал: не ослышался ли? Желая убедиться, нарочито строго сказал:
— А чего нужно?
— Открой, батя, это я, Ефим. Стукнул засов, дверь распахнулась. Ночной гость проворно шагнул в коридор, сразу же закрыл за собой дверь на запор и осветил карманным фонариком сначала себя, а потом Холодова.
— Ефим, сынок! — Холодов обнял его за плечи. — Откуда ты? Живой? Слава богу. А мы-то думали… ни слуха ни духа… Чего же мы тут, пошли.
— Тише, батя, — прошептал Ефим. — Чужих нет в доме?
— Никого, — ответил Холодов, но помедлив, добавил: — Есть, правда, но это Танюшка, дочка дяди Василия. Отца в армию забрали, мать убили. Вот и приютили у себя.
— Танюшка? — Ефим па минуту задумался. — Не нужно ей знать обо мне, да и маме сегодня ничего не говори. Придумай что-нибудь, скажем, приходил кто-то, если она слышала. Завтра все расскажу. И вообще, никто не должен знать, что я здесь. Понимаешь?
— Так ты того…
Голос у Холодова дрогнул, он не мог вымолвить то самое страшное слово, от которого по спине у него поползли мурашки.
— Батя, я все, все тебе расскажу, — срывающимся голосом забормотал Ефим. — Я страшно устал, мне бы уснуть. Только чтобы никто туда…
— Пошли, — Холодов для чего-то взял Ефима за руку. — Осторожнее, не зацепись за ведра.
Одна из трех комнат в доме была разделена тонкой перегородкой. В первой половине, с двумя окнами, жила Таня, другая половина, без единого окна, служила кладовкой и имела два выхода: в горницу и коридор. В ней почти никто небывал. Воттуда ипровел Холодов своего старшего сына. Потом он принес маленькую керосиновую лампу, засветил ее. На стенах запрыгали неясные тени, суетливо зашуршали тараканы, прячась в своих убежищах, Ефим брезгливо поморщился.
— Их тогда вроде меньше было… И клопы есть?
— Всего хватает, эта пакость живучая, — Холодов покосился на дверь. — Может, сказать матери? Собрала бы поесть.
— Не надо, — замахал руками Ефим. — Я устал, ничего не хочу.
Он снял пахнущую потом гимнастерку, сунул ее под кровать, пригладил пятерней жесткие волосы и сел к издырявленному червоточиной столику.
Свет лампы падал на его лицо. Оно было темным, осунувшимся. Небольшие глаза бегали с затаенной тревогой. Впалые щеки густо покрывала щетина, лоб прорезала едва заметная морщина.
Глядя на него, Холодов попил, что Ефим не один день провел где-то в степи или в лесу, сторонясь людей. «Собачья жизнь», — подумал он, выкладывая на стол кисет.
Ефим свернул самокрутку, жадно затянулся.
Читать дальше