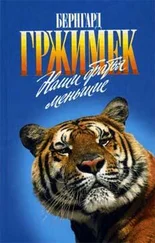Какая досада – эта лихорадка! Десять лет будут тянуться эти работы в Люнебургской степи. Почему не позволило ему правительство перевести берлинские исправительные тюрьмы в Люнебург, где он мог бы применить сколько угодно рабочей силы? Почему они до сих пор колеблются внести законопроект, по которому всякое наказание, сопряженное с лишением свободы, превращалось бы в трудовую повинность? Ничто не подвигалось вперед. Вот уже две недели не поступало никаких сведений о положении канала Ганновер-Эльба. Врачи не позволяли ему выслушивать доклады о самых неотложных делах. А промышленная колония на Срединном канале? Развивается ли она? А земледельческие колонии в Восточной Пруссии и на баварских горных болотах? Через две недели назначен был гидротехнический съезд. Поправится ли он за это время? А канал Везер-Майн? Зеленые пояса на периферии городов, сады и огороды для школ – какая важная задача! Какая огромная проблема – летние школы на открытом воздухе! Проблемам не было числа.
– Постарайся же спать, – просила Ева.
– Не понимаю, как это врачи не умеют справиться с такси глупой лихорадкой! – отвечал Михаэль и качал головой.
– Скоро! – сказал себе Венцель Шелленберг и многозначительно кивнул.
Он проводил взглядом Эстер, которая прошла по коридору полуголая, в фантастическом вечернем туалете, и дала камеристке надеть на себя манто.
«Скоро! Скоро!» Венцель сделался очень молчалив с тех пор, как вернулся в Берлин. В правлении все дрожали, издали завидев его. Венцель нередко бывал криклив, запальчив, часто даже гневен. К этому привыкли. Это было не так опасно, как казалось. Но молчащий Венцель – это был ужас. Начальники отделений на цыпочках приближались к его письменному столу. Он сидел за ним мрачнее тучи, сжав губы, и старался быть крайне вежливым и крайне корректным. Служащим была приятнее его прежняя крикливость и раздражительность. Макентин часто поглядывал испытующе на холодное и замкнутое лицо Венцеля. Что он замышляет? Макентин знал Венцеля так давно и так хорошо, что догадывался о его совершенно необычном состоянии.
Как и в пору своего восхождения, Венцель снова стал проводить вечера в ресторанах, расположенных поблизости от Жандармского рынка. Он сидел всегда один. Не выносил никакого общества. В шахматы уже не играл.
Макентин часто просиживал за работою до поздней ночи. Как часто Венцель приезжал в два, три часа ночи в правление, чтобы часами ходить по своему кабинету из конца в конец! О чем он размышлял?
Макентин наблюдал за Венцелем и в его доме. Как странно, – там Венцель казался по-прежнему хорошо настроенным. Болтал, шутил, словно ничего не произошло, словно ни над чем загадочным не раздумывал. Но Макентин слишком хорошо знал голос Венцеля: его повышенная звонкость выдавала притворство, и часто он следил за взглядом, каким Венцель провожал Эстер. Его серые глаза блестели! Они никогда, правда, не были добрыми, но в эти мгновения их блеск не сулил ничего хорошего.
– У себя дома Венцель часто играл с Макентином в шахматы, в карты и на бильярде. Они курили, пили пиво как ни в чем не бывало. Но как же играл теперь в шахматы Венцель! Он, некогда первоклассный игрок, опытный, упорный, играл теперь, как начинающий. Макентин не сомневался, что все его поведение – притворство. Плохая шахматная игра была самой неопровержимой из улик.
Когда Венцель вечером не уходил из дому, он почти всякий раз приглашал к себе Макентина. Макентину казалось, что Венцель нуждается в его обществе, быть может, для сохранения спокойствия, быть может, для того, чтобы не выходить из своей роли.
О чем он размышлял?
Вчера вечером двое служащих концерна случайно видели его в маленьком кафе на Александерплаце. Что ему там нужно было? Он, Венцель, в прежнее время день и ночь носившийся в своем автомобиле, теперь почти перестал Пользоваться собственными машинами. Шофер поделился с Макентином своей тревогой. Он находил в господине Шелленберге резкую перемену. Макентин пожал плечами и усмехнулся:
– Он переутомился, вот и все. У него больше забот, чем у нас с вами.
Часто Венцель совершал многочасовые прогулки. Нередко случалось при этом, что он громко разговаривал сам с собой.
– Это должно свершиться, – говорил он. – Другого исхода нет.
Да, в те дни, на яхте, когда он носился по Балтийскому морю, это решение запало ему в душу. Другого не было. Старому Раухэйзену он никогда не мог простить выговора за десятиминутное опоздание. Что же было ему делать теперь, когда его имя втаптывали в грязь?
Читать дальше
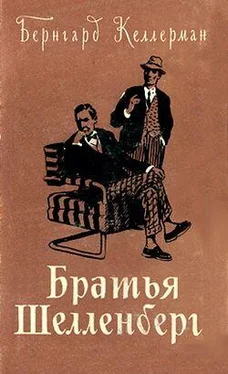
![Вальтер Шелленберг - Мемуары [Лабиринт]](/books/11305/valter-shellenberg-memuary-labirint-thumb.webp)