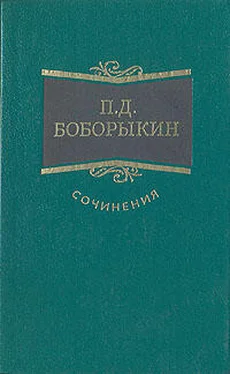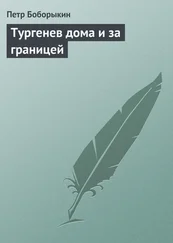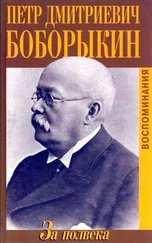— Из-за меня. Факт налицо — это во-первых. А вовторых — я зачинщик. На кого я напал? На господчиков, которые держатся расовой вражды.
— Это не резон. Антисемитами в Европе бывают и социалисты и анархисты.
— То в Европе!
— Только без нужды не брыкайтесь, Заплатин, даже и на случай разбирательства. Теперь вы нездоровы. Вон у вас какой жар. Никто вас силой не потащит. У меня будет теперь передышка… так, с недельку. Я буду вашим даровым юрисконсультом.
— Спасибо! Только, Сергей Павлович, сказать вам начистоту?..
— Что такое? Вам вдвойне скверно?
Глазами Кантаков дал понять, на что он намекает.
— Одно к одному, — вымолвил Заплатин. — Да, я не скрою от вас… я потерял любимую девушку.
— Разлюбила?
— Я сам от нее отказался. Мне тяжело говорить.
— И не надо. Значит, вы теперь в особом душевном состоянии… вроде аффекта. Вероятно, и в аудиториях и на сходке у вас нервы ходуном ходили.
— Это мое дело.
— Но зачем же портить себе то, что можно взять от самой этой… alma mater, которая нас с вами так огорчает?
— Не стоит биться.
— Из-за чего?
— Из-за экзамена, прав, звания там, какого ни на есть.
— Не согласен с вами!
— В чинуши идти?
— Зачем? Вот перед вами тоже питомец университета…
Не чиновник, не делец. Вы думаете, я — когда стоял на распутье, как Иван Царевич, — тоже не был заедаем скептицизмом? Идти в помощники присяжного поверенного… в брехунцы, в аблакаты? Что может быть более опошленное и жизнью и прессой? Всем! И вот я нашел себе дело… по душе.
— Удача! Кстати же талант!
— Талант — вещь наживная, Заплатин. Поверьте мне. Пускай мои благоприятели прохаживаются насчет этой моей специальности… "Ловкач! Ищет популярности!
Выезжает на защите народных масс, чтобы потом начать забирать куши!.." Не знаю: может, и я, с годами, опошлею. Ручаться и за себя нельзя. Но пока я комедии не ломаю… вы мне поверите. Разумеется, надо пить-есть. На это всегда найдутся процессы с порядочной оплатой.
— Вас увлекает успех, Сергей Павлович.
— Положим! Но успеха можно добиться и защищая разное жулье, расхитителей всякого чужого добра — en grand и en petit.
Оживленное лицо Кантакова, его выразительность и звук речей почему-то не действовали на Заплатина.
Бойкий, умный молодой адвокат — быть может, будущая известность, — но в душу ему его призывы не западали.
— Сдавайте экзамен, и будем вместе работать. Я вас зову не на легкую наживу. Придется жить по- студенчески… на первых порах. Может, и перебиваться придется, Заплатин. Но поймите… Нарождается новый люд, способный сознавать свои права, свое значение. В его мозги многое уже вошло, что еще двадцать-тридцать лет назад оставалось для него книгой за семью печатями. Это — трудовая масса двадцатого века.
Верьте мне! И ему нужны защитники… — из таких, как мы с вами.
Кантаков встал и наклонился к изголовью.
— К доктору отъявлялись?
— Нет.
— Хотите, пришлю… одного приятеля… ассистента по внутренним болезням?
— Увидим.
— И прошу вас, во имя нашей приязни, без меня ни на что не решаться. А завтра я еще забегу.
Помолчав, он спросил на ухо:
— Может, перехватить желаете?
— У меня еще есть. Спасибо, Сергей Павлович, за ваше неоставление!..
По уходе Кантакова он лежал с четверть часа, ни о чем не думая.
Разговор утомил его. Боль в голове как будто усилилась; в пояснице также ныло.
Ничего не хотелось, ни есть, ни пить чай. И так придется лежать не один день — может, это начало воспаления или тифа.
"И пускай!" — подумал он без страха, почти с полным равнодушием.
Опять голова коридорной девушки выглянула из двери.
— Иван Прокофьич! — тихо окликнула она.
— Что вам, Маша?
— Письмо… подали.
— Хорошо… положите сюда, на столик.
Когда она вышла, Заплатин долго не поворачивал головы к ночному столику.
Не все ли равно, от кого это письмо. От матери вряд ли.
Она писала ему на днях, передавала свой разговор с отцом Нади.
Все это позади! И никогда не возвратится.
Он повернул голову минут через пять, и взгляд его упал на конверт.
Он узнал сразу — от кого. Такие конверты — у Нади.
Сейчас же он поднялся и дотащился до письменного стола, где горела лампочка под стеклянным абажуром.
Пальцы его вздрагивали, когда он срывал конверт с монограммой.
Почерк у Нади крупный и толстый — совершенно мужской.
Одним духом пробежал он все три страницы листка.
"Ваша матушка, — писала Надя, — сказала моему отцу, что если бы я действительно вас любила — я бы не выбрала сцены. Может быть, и вы того же мнения, Заплатин? Но не следовало, кажется мне, говорить так моему отцу. Вы возвратили мне свободу, а я не хотела фальшивить, не хотела и ломать свою жизнь потому только, что вы не хотите быть мужем будущей актрисы.
Читать дальше