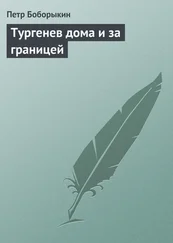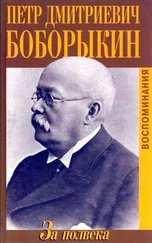Петр Дмитриевич Боборыкин
Памяти Тургенева
Роялист восклицает:
– Le roi est mort, vive le roi! [1]
А мы скажем: умер дорогой наш художник, и заживет он вновь, во веки веков! До тех пор, пока не смолкнет русская речь! Умер человек, но национальная наша слава и гордость не померкнут. Имя и обаяние Тургенева разойдутся по всему грамотному свету.
Русские не могут рассчитывать на долголетие, особенно – писатели. Давно уже вычислено, что средняя цифра жизни русского человека умственного труда – что-то вроде тридцати шести лет. Не шестьдесят пять, а по крайней мере век покойного канцлера князя Горчакова пожелал бы каждый Тургеневу, но и с той же бодростью, с тем же здоровьем. А ведь страдалец, уснувший в Буживале, мучился около двух лет в страшных болях… Разве смерть – не избавительница в таких мучениях? Конечно, да. Надо это говорить прямо. Читать подробности, вроде опубликованных на днях по рассказу одного издателя, – было слишком тяжко за покойного. Он знал, что смерть стоит над ним; а тут еще надо говорить о постылых издательских делах, об исполнении своих обещаний… Ему, человеку тихой жизни, не знавшему излишеств, – судьба послала такой же адски долгий конец, как и Некрасову. И он, наверно, повторял не раз среди ужасов бессонных ночей стих своего приятеля, сделавшегося потом недругом:
Хорошо умереть – тяжко умирать.
Но зачем говорить только о конце?.. Выкиньте три, пять лет, и останется шестьдесят, из которых в течение тридцати он радовал всех полетом своего творчества… Тридцать лет! Многим ли досталось это в удел? Тургенева родина не переставала любить, хотя его писательство подвергалось крутым переменам симпатий и в молодой публике, и в критике.
В самый расцвет его сил, после блистательных успехов с «Дворянским гнездом» и «Накануне», он, по жалкому, хотя и понятному недоразумению, оттолкнул от себя на время известную долю молодежи и тогдашний радикальный журнализм величайшим своим произведением: «Отцы и дети». Не забудем, что передовой тогдашний журнал «Современник» с ликованьем выступил против него статьей «Новейший Асмодей». Статья эта останется памятником того, как тенденциозность и узость понимания могут играть, в данный момент, роль чего-то нового, торжествующего… Перечтите ее для интереса, и вы увидите, до чего могли доходить ослепление и отсутствие чутья и вкуса!..
Но и позднее в течение целых десяти – пятнадцати лет Тургенев находился в опале. Его авторские признания, написанные в Баден-Бадене, в конце 60-х годов, прямо указывают, как он себя тогда чувствовал как русский писатель. Он совсем было решился прекратить свою деятельность. Говорил он это многим, и приятелям, и простым знакомым. Это желание забастовать было вызвано не тем только, что он связал свою судьбу с семьей Виардо и поселился за границей. Сюда входила и обида, горечь, сознание того, что его перестали понимать новые русские люди, для которых он всегда искал идеалов и образов. Не только радикалы и народники, но и либеральные зубоскалы, перебежавшие теперь в охранители, шедшие на буксире ругательных настроений, делали Тургенева предметом газетных фельетонных пародий. Рецензент тогдашних «Санкт-Петербургских ведомостей» забавлялся этим, и такая недостойная игра, конечно, не подходила к общему честному направлению газеты покойного В. Ф. Корша… В «Деле» и «Отечественных записках» продолжали дуться на Тургенева, и со смерти Писарева, который понял Базарова как надо, вряд ли появилась в них хоть одна дельная сочувственная статья.
Помню, при мне Некрасов получил рукопись от начинающего, под заглавием «Всероссийский фаворит». Это было едкое обличение всей писательской карьеры Тургенева с точки зрения народника 70-х годов. Редакция увидела в авторе бойкость; статья ей понравилась; но она не решилась из благоразумия напечатать ее. С тех пор автор ее сделался одним из теперешних тенденциозных рецензентов, считающих себя солью земли.
И шло это так вплоть до 1878 года. Стало быть, захватило и «Новь», которой крайний лагерь молодежи опять не понял; да и журналы с газетами отнеслись к этому роману очень узко, за исключением двух-трех органов. В Москве в кружке молодых профессоров Ивана Сергеевича, так сказать, заново начали чествовать, и оттуда, с овации, сделанной ими на заседании Общества любителей словесности в Физической аудитории Московского университета, пошел ряд других оваций и чествований. Из Москвы они перелетели в Петербург. В Москве, с хор аудитории, студент от лица товарищей еще читал автору «Записок охотника» как бы сочувственную нотацию за то, что он не понял новейшей молодежи; но потом проявление симпатий пошло все в гору… В Петербурге самыми страстными восторгами заявила себя женская публика, на одном из публичных вечеров вся почти состоявшая из слушательниц высших курсов. Сам Тургенев рассказывал нам про этот вечер с особым одушевлением.
Читать дальше