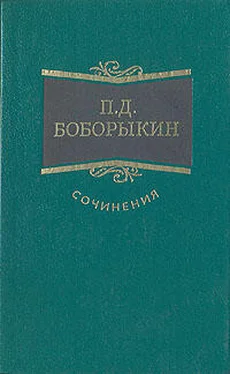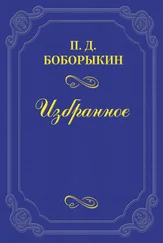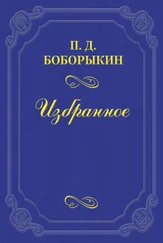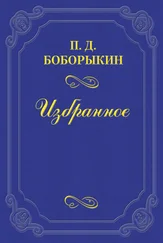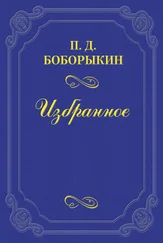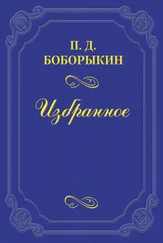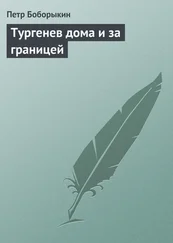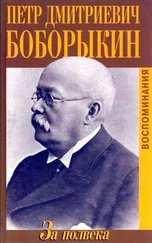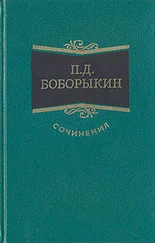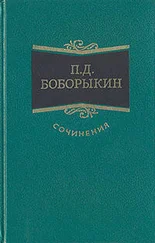И его водворили в уездный городок на Волге, где он просидел больше года.
Он не сожалеет. Много он кое-чего узнал в это подневольное сидение, вошел в жизнь своей родной «палестины», поездил и по уезду, попадал в лесные трущобы, присматривался к расколу, «бегал» на пароходах вверх и вниз — разумеется, все это более или менее контрабандой. Надзор был не особенно строгий. Запрет лежал только вот на этом городе, куда его опять стало тянуть, на Моховую.
Раньше — он мало знал свои родные места, Гимназистом приезжал только на вакации; да и то в старших классах брал кондиции, готовил разных барчат в юнкерское училище или подвинчивал их насчет древних языков и математики. Студентом на зимние вакации не ездил, а летом также брал кондиции, в последние два года, когда, после смерти отца, надо было прикончить дело, которым держались их достатки.
По отцу он купеческого сословия; а мать — дочь чиновника, попавшего в их город, вроде как «штрафным», из не кончивших курсы студентов. В их городе он и пробивался кое-чем, больше по статистике, умер рано, дочь осталась сиротой, и отец его взял ее "по любви".
У отца было небольшое канатное заведение — из рода в род. Кое-как оно держалось; а когда он умер — оказались долги, и заведение продали для покрытия их.
Остался домик, в два этажа, полудеревянный, полукаменный. Верхнее жилье отдается внаймы. С этого мать его и живет.
Ему бы надо было поступить в реальное училище, а потом идти в техники или путейцы, а то так прямо в нарядчики или в конторщики на пароходную пристань.
А в нем не то бродило. Должно быть, «атавизм» от деда со стороны матери. О гимназии он еще «карапузиком» начал мечтать и даже просил взять ему репетитора-дьякона в соборе, чтобы подготовить к классической муштре.
Родом он волжский обыватель, из мужиков; только дед приписался к третьей гильдии, — и лицо у него бытовое, в отца, а душа вышла не купеческая, и не чиновничья, и не дворянская, а «общерусская», как он сам называл.
Не кичится он тем, что принадлежит к «интеллигенции»; но и не огорчается тем, что университет дал ему такую «осечку»; не жалеет и о том, что не готовил себя в люди практического дела, не обеспечил себе никакого технического заработка.
По собственному выбору поступил он на юридический факультет, не смущаясь тем, что и без него слишком много народу накидывается на то же.
Ученого призвания он в себе не признавал, а учительствовать — классиком или преподавателем математики — одинаково не манило его. Не хотел он превращаться в одного из тех «искариотов», какими угостила и его гимназия.
Ничего не было выше для него науки об обществе, о его нуждах и запросах, о тех законах развития, в которых потребности ведут к выработке всего, чем красится и возвышается жизнь.
А чем он будет жить, когда простится с "alma mater", — он и теперь не очень-то много думает.
Сколько он наслушался и там, на родине, во время подневольного пребывания в своем приволжском городе, нынешних возгласов:
"Не нужно нам умственного пролетариата! Слишком много шатается по Руси всех этих умников, ни на какое настоящее дело не пригодных!"
Слова: «интеллигенция» и «интеллигент» — произносятся с особым выражением, почти как смехотворные прозвища.
А ему они до сих пор дороги. Нужды нет, что они переделаны с иностранного. Без них небось никакой разговор не ведется.
Не станет он сам себя величать: "я интеллигент"; но не будь он из этого "сословия", — что бы в нем сидело? Какие устои? Какие идеи и упования?
Не смущает его то, что теперь и у нас, в Европе, в такой передовой стране, как Франция, раздаются такие же голоса.
И там кличка «intellectuel» — бранное прозвище. Но для кого? Для реакционеров-националистов, для тех, кто с пеной у рта оплевывал лучших людей Франции, кто цинически ликовал при вторичном беззаконном приговоре над невинным, потому что он — "жид".
Здесь, вот в этой Москве, куда он опять попал, как в землю обетованную, — стал он «интеллигентом» и останется им до конца дней своих.
Что нужды, что эта «первопрестольная» — как и в третьем году, как и пять лет назад, когда он впервые попал сюда, — все такая же всероссийская ярмарка. Куда ни взгляни, все торг, лабаз, виноторговля, мануфактурный товар, «амбары» и конторы, и целый «город» в городе, где круглый год идет сутолока барышничества на рубли и на миллионы рублей.
А для него и для сотен таких, как он, этот всероссийский город — очаг духовной жизни. Здесь стали они любить науку, общественную правду, понимать красоту во всех видах творчества, распознавать: кто друг, кто враг того, из-за чего только и стоит жить на свете.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу