Мне кажется, что они готовы оплодотворять себя, откладывать яйца и высиживать их, но при этом жало самцов остается не менее смертоносным.
Среди самых убогих нищих говорят:
— Как дела, Воровка (или Старьевщица)?
Гвиана — тоже слово женского рода. Гвиана вбирает в себя всех этих самцов, которых называют «крутыми». Кроме того, она — тропический край, расположенный на талии мира, лихорадочно возбужденный — от золотой лихорадки — край, где на болотах в джунглях еще скрываются свирепые племена. К ней-то я и устремляюсь, ибо, исчезнув, она по-прежнему остается идеальным местом горя и покаяния, к которому устремляется не мое физическое тело, а то, что взирает на него с ужасом, смешанным с утешительным упоением. Каждый из «крутых», кто здесь часто бывал, остался мужественным — подобно «воровкам» и «старьевщицам», но поражение учит их тому, что доказывать это бессмысленно.
В Армане чувствовалась усталость. Он почил на собственных мускулах, как герой на лаврах, он успокоился в собственной силе, отдыхая на ней. Если он грубо хватал за нежный затылок какого-нибудь паренька, заставляя его нагнуться, это был всего лишь машинальный жест, говоривший о том, что он не забыл приемов и бесцеремонных нравов мира, в котором ему, должно быть, пришлось немало пробыть и откуда, как я считал, он вернулся. Его доброта — о ней я уже упоминал — заключалась в том, что он оказал мне гостеприимство, коему суждено столь полно удовлетворить мои самые тайные желания, которые я и сам выявляю с великим трудом, хотя только они способны извлечь из меня безупречную, то есть наиболее тождественную мне сущность. Я мечтал о Гвиане, но уже не о том ныне обезлюдевшем выхолощенном месте на карте, а о соседстве, или даже сожительстве в сознании, не в пространстве, возвышенных форм, великих архетипов несчастья.
Гвиана добра. Кажется, это одно из самых засушливых и бесплодных мест на земле, но его пронизывает лейтмотив доброты: Гвиана рождает, внушает образ материнской груди, наделенной столь же умиротворяющей силой, груди, от которой исходит немного зловонный запах, вселяя в меня постыдную безмятежность. Я называю Гвиану и Богоматерь Утешительницами страждущих душ.
У Армана, по-видимому, были те же дурные свойства, однако, когда я о нем вспоминаю, у меня возникают отнюдь не ужасные, а весьма нежные ассоциации, которыми я выразил бы любовь не к нему, а к вам. Когда я покинул его в Бельгии, как было сказано выше, меня терзали угрызения совести и стыд, и в поезде я думал только о нем; поскольку у меня не осталось надежды когда-нибудь увидеть его или прикоснуться к нему, я отправился на странные поиски его призрака. Поезд увозил меня от него, а я старался сократить разделившие нас пространство и время, лихорадочным усилием воли повернуть их вспять, в то время как во мне появлялась, становилась все более явственной — лишь она могла смягчить мою боль от потери Армана — мысль о его доброте, так что когда поезд (он как раз миновал еловый лес, и, вероятно, резкое несоответствие неожиданно светлого пейзажа и спасительной тени елей вызвало предчувствие катастрофы) возле Мобежа со страшным грохотом въехал на мост и мне вдруг показалось, что мост обрушился и развалившийся поезд летит в открывшуюся бездну, лишь этой переполнявшей меня доброте, которая уже управляла всеми моими действиями, удалось в мгновение ока соединить обломки, починить мост и помочь составу избежать катастрофы. Когда мы пересекли виадук, я спросил себя, не произошло ли то, что я описал, на самом деле. Поезд все так же бежал по рельсам. Французский пейзаж оттеснял Бельгию все дальше и дальше.
Доброта Армана заключалась не в том, чтобы делать добро: образ Армана, удаляясь от своего костлявого мускулистого прототипа, становился своего рода туманной стихией, в которой я скрывался, и этот приют был столь сладостным, что из его лона я посылал окружающим свои изъявления благодарности. Я мог бы найти в Армане оправдание и одобрение моего чувства к Люсьену. В отличие от Стилитано он вобрал бы меня в себя вместе с бременем этой любви и со всем, что, вероятно, из нее вытекает. Арман поглощал меня. Таким образом, его доброта была не одним из многих качеств, признанных расхожей моралью, а свойством, которое, по мере моих раздумий о нем, все еще вызывает во мне различные чувства, навевающие безмятежные образы. Я постигаю его доброту благодаря языку.
Вяло предаваясь любви, Стилитано, Пилорж, Михаэлис, все «коты» и воры, с которыми я встречался, остаются искренними, не суровыми, а спокойными и лишенными нежности; даже в наслаждении или в танце они пребывают одни, отражаясь в самих себе; они осторожно смотрятся в зеркало своей мужественности и силы, которое столь же бережно, как маслянистая ванна, разглаживает и сковывает их, в то время как безучастные к их порывам роскошные любовницы отражаются в самих себе и, оставаясь собой, замыкаются в своей красоте. Я хотел бы составить букет из этих красивых парней и поместить в закрытую вазу. Тогда, возможно, их гнев растопил бы незримую оболочку, отделяющую их от мира; под сенью тумана, который заключает их в себе, они могли бы распускаться, цвести и устраивать для меня празднества, которыми так гордится моя воображаемая Гвиана.
Читать дальше
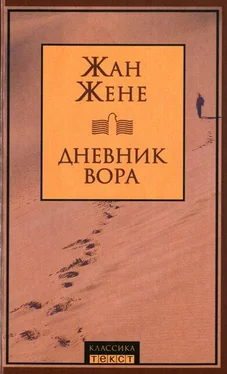








![Жан Жене - Влюбленный пленник [litres]](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-thumb.webp)
