Трагедия — это радостный миг. Чувство радости может выразиться в улыбке, в ликовании лица и тела. Герою не ведома значимость трагической темы. Он не должен ее лицезреть, даже если смутно ее предвидел. Равнодушие присуще ему от рождения. На балах в рабочих предместьях встречаются серьезные молодые люди, безразличные к музыке; они скорее дирижируют ею, а не воспринимают ее. Другие весело роняют в девушек сифилис, подобранный в одной из них же; невозмутимо, с улыбкой на лицах, они движутся к распаду собственных тел, о котором возвещают восковые фигуры лачуг. Если герой идет на смерть — к неизбежной развязке, — он идет с открытым сердцем, как навстречу если не счастью, то наиболее совершенному, то есть счастливому самовыражению. Герой не станет корчить гримас при героической смерти. Лишь она, эта смерть, делает из него героя, будучи состоянием, к которому отчаянно стремятся посредственности; она — это слава и, наконец (сама смерть и нагнетение видимых неудач, которые к ней ведут), — венец предрасположенной к ней судьбы, но в первую очередь — это взгляд нашего отражения в идеальном зеркале, которое являет нас в вечном сиянии (до тех пор пока не померкнет сей свет, названный нашим именем).
Висок кровоточил. Двое солдат только что подрались из-за чего-то, о чем они давно позабыли; тот, что помоложе, упал с виском, рассеченным чугунным кулаком, а другой смотрел, как стекавшая кровь превращается в букетики примул. Это цветение быстро распространилось, перекинулось на лицо, которое моментально покрылось множеством таких же мелких цветков, нежных и фиолетовых, как вино, которым блюют солдаты. В конце концов все тело юноши, валявшееся в пыли, стало пригорком, усыпанным настолько большими примулами, что они вполне могли сойти за маргаритки, в которых гуляет ветер. Лишь одна рука пока была видна и дергалась, но ветер не оставлял в покое растения. Вскоре победителю осталась видна только кисть, неловко махавшая ему в знак прощения и безнадежно утраченной дружбы. Эта кисть в свою очередь исчезла в цветущем гумусе. Ветер медленно и нехотя стих. Небо помрачнело, высветив глаз жестокого солдата-убийцы. Он не плакал. Он уселся на кургане, в который превратился его друг. Ветер налетел снова, но уже не столь яростно. Солдат отбросил волосы, упавшие на глаза, и улегся. Он заснул.
Улыбка трагедии также вызвана своего рода юмором по отношению к богам. Герой трагедии тактично подшучивает над своей судьбой. Он проделывает это столь нежно, что мишенью его шуток на сей раз становятся не люди, а боги.
Уже судимый за воровство, я могу получить новый срок без всяких улик, по одному лишь обвинению или подозрению. Закон считает меня способным на преступление. Опасность подстерегает меня не только во время кражи, но и в каждый миг бытия, потому что я воровал. Смутная тревога окутывает мою жизнь туманом, отягчает и в то же время облегчает ее. Чтобы сохранить ясность и остроту моих глаз, мое сознание должно контролировать каждый мой шаг, чтобы я смог моментально изменить его смысл, скорректировать его направление. Эта тревога не дает мне уснуть. Она держит меня в позе белки, изумленно застывшей на лужайке. Но тревога и подхватывает меня как вихрь, кружит мне голову, заставляя ее гудеть, и толкает меня во мрак, где я прижимаюсь к земле, услышав под листьями, как земля отзывается на чьи-то шаги.
В древности Меркурий якобы был богом воров, поэтому они знали, к кому им обращаться. У нас же нет никого. Возможно, было бы логично молиться дьяволу, но ни один из воров по-настоящему не отважится на это. Вступить с ним в сделку — значит зайти чересчур далеко, ведь он восстал против Бога, который, как всем известно, в итоге стал победителем. Даже убийца не решится молиться дьяволу.
Чтобы порвать с Люсьеном, я утоплю этот взрыв в лавине несчастий и буду думать, что именно она унесла малыша. Он будет кружиться соломинкой в воронке торнадо. Узнав, кто наслал на него беду, он возненавидит меня, но эта ненависть оставит меня равнодушным. Угрызениям совести и упрекам его прекрасных глаз будет не под силу меня взволновать, ибо я окажусь во власти отчаянной скорби. Я лишусь вещей куда более дорогих моему сердцу, чем Люсьен, но не настолько дорогих, как мои угрызения совести. Поэтому я охотно убил бы Люсьена, чтобы похоронить мой стыд под роскошным саваном преступления. Увы, религиозный страх и удерживает меня от убийства, и приближает меня к нему. Этот страх рискует сделать из меня священника, превратить в жертву Бога. Чтобы разрушить притягательную силу убийства, мне, быть может, достаточно довести ее до предела, практически обосновав злодеяние. Я сумел бы убить человека за несколько миллионов. Вес золота может оказаться тяжелее веса убийства.
Читать дальше
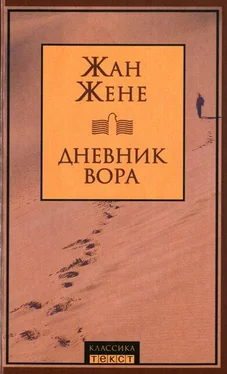








![Жан Жене - Влюбленный пленник [litres]](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-thumb.webp)
