Переход границы и чувство, которое он мне внушает, видимо, посеяли во мне подозрение относительно сущности нации, в которую я проникал. Я проникал не в страну, а скорее в недра картины. Естественно, я желал овладеть ею и воздействовать на нее. Поскольку военная машина характеризует ее лучше всего, я жаждал испортить эту машину, для чего у иностранца есть один способ — шпионаж. Возможно, к этому желанию примешивалось стремление осквернить предательством учреждение, основой которого должна быть верность — или лояльность. Возможно, я также хотел уйти как можно дальше от моей собственной страны. (Разъяснения, которые я даю, приходят мне в голову сами собой, они, кажется, подходят для данного случая. Читатель согласится на них хотя бы ради меня.) Так или иначе, из-за врожденной склонности к чудесам (она все еще распалена моим возбуждением от могущества природы, — могущества, признаваемого людьми), я был готов действовать не по законам морали, а согласно некоторым правилам романтической эстетики, которые превращают шпиона в беспокойного, невидимого, но влиятельного героя. В конце концов во многих случаях подобное стремление оправдывало мое проникновение в страну, куда ничто не заставляло меня идти, кроме разве что изгнания из соседней страны.
Я упоминаю о шпионаже в связи с моим отношением к природе, но, когда Стилитано меня покинул, эта спасительная мысль явилась мне словно ради того, чтобы закрепить меня на вашей земле, по которой одиночество и нищета заставляли меня не ходить, а летать. Ведь я так беден и меня уже обвиняли в стольких кражах, что, даже выходя из чьей-нибудь комнаты на цыпочках, затаив дыхание, я по сей день не уверен, что не прихватил с собой петель от штор или дыр для багета. Я не знаю, насколько Стилитано был посвящен в военные тайны, что именно мог он разведать в Легионе, в канцелярии какого-нибудь полковника. Но так или иначе, ему вздумалось стать шпионом. Ни выгода, которую нам удалось бы из этого извлечь, ни даже риск авантюры меня не привлекали. Лишь мысль об измене завораживала меня, все больше укореняясь в моем сознании.
— Кому бы продаться?
— Германии.
Однако, немного поразмыслив, он передумал:
— Лучше Италии.
— Но ты же серб. Это ваши враги.
— Ну и что?
Если бы мы довели эту авантюру до конца, она отчасти помогла бы мне выбраться из мерзости, в которой я оказался. Шпионаж как средство вызывает у государств такой стыд, что они облагораживают его в силу его постыдности. Мы извлекли бы пользу из этого благородства. Хотя в нашем случае шла речь об измене. Впоследствии, когда меня арестовали в Италии и офицеры допрашивали меня об охране наших границ, я сумел открыть диалектику, способную оправдать мои признания. Стилитано поддержал бы меня в этом случае. Из-за этих показаний я сознательно становился пособником страшной катастрофы. Стилитано мог предать свою родину, а я свою — из любви к Стилитано. Когда я стану рассказывать вам о Жава, вы обнаружите те же черты характера, узнаете почти такое же лицо, как и у Стилитано; подобно двум сторонам треугольника, которые сходятся в параллаксе, расположенном в небе, Стилитано с Жава спешат навстречу с негасимой звездой — Марком Обером. [15] Это лицо неотличимо от лица Рассенёра — взломщика, с которым я работал году в 1936-м. Я узнал из еженедельника «Сыщик» о том, что его приговорили к пожизненной ссылке, и тогда же писатели подали петицию президенту республики, прося об отмене такого же наказания для меня. Снимок Рассенёра в зале суда помещен на второй странице. Насмешливый журналист утверждает, что преступник кажется очень довольным. В Сантэ он был царьком. Он будет заправилой в Риоме или Клерво. По-моему, Рассенёр — уроженец Нанта. Он грабил и педерастов («тетушек»). Мой приятель рассказывал, как один из ограбленных Рассенёром, усевшись за руль машины, отправился на его поиски и кружил весь день по Парижу, чтобы «случайно» его задавить.
Если бы сия суконная накидка, украденная у карабинера, уже даровала мне как бы предчувствие результата, в котором закон и нарушитель закона сливаются воедино, прикрываясь друг другом, а также с примесью ностальгии подвергая проверке мужество своего антипода, она предоставила бы Стилитано шанс на не столько духовную или изощренную авантюру, а на приключение, глубже укоренившееся в повседневной жизни, приносящее большую пользу. Речь пока не идет о предательстве. Стилитано был державой. Его эгоизм обрисовывал четкие контуры его природных границ. (Стилитано был державой в моих глазах.)
Читать дальше
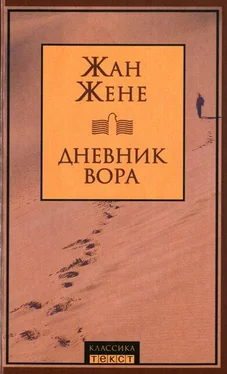








![Жан Жене - Влюбленный пленник [litres]](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-thumb.webp)
