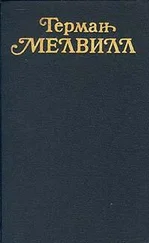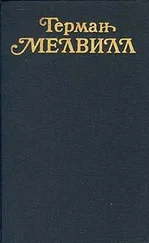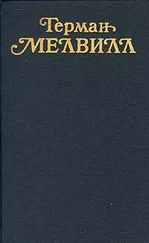«Ах ты, батюшки! — подумал Израиль, задрожав. — Теперь уж мне не спастись. Угораздило же меня забраться в парк какого-то вельможи!»
Однако через несколько минут он вышел на проезжую дорогу и понял, что, несмотря на всю эту красоту и аккуратность, перед ним обычная сельская местность, каких много в Англии, этом обширном ухоженном парке, обнесенном оградой из волн морских. На деревьях возле дороги лопались почки. Каждый еще не развернувшийся листок как раз вырывался из своей тюрьмы. Израиль поглядел на новорожденные листочки, опустил глаза на новорожденную травку, бросил взгляд на новорожденную зарю — все это дышало таким весельем, а его угнетала такая печаль, что он разрыдался как дитя, и воспоминания о родных горах нахлынули на него могучим потоком. Однако, справившись со своими чувствами, он продолжил путь и вскоре поравнялся с полем, на котором виднелись две фигуры. Израиль заметил розовые щеки, короткие сильные ноги в синих чулках, открытые чуть ли не до колена, грубые белые балахоны и широкополые соломенные шляпы, заслонявшие от него почти все лицо.
— Простите, сударыни, — не без галантности начал Израиль, сдергивая шапку. — Скажите, пожалуйста, ведет ли эта дорога в Лондон?
При этом приветствии фигуры повернулись в тупой растерянности, которая немедленно отразилась и на лице Израиля, так как ему стало ясно, что перед ним не женщины, а мужчины. Его сбили с толку балахоны, скрывавшие короткие, до колен, штаны, которые эти крестьяне носили вместо привычных ему длинных панталон.
— Прошу прощения, сударыни, но я принял вас не за то, что вы есть, — объяснил Израиль.
Снова на него уставились две пары угрюмых, недоумевающих глаз.
— Эта дорога ведет в Лондон, господа?
— Господа… Ишь ты! — воскликнул один из крестьян.
— Ишь ты! — повторил его товарищ.
Воткнув мотыги в землю, они принялись неторопливо рассматривать Израиля и скрести затылки под соломенными шляпами.
— Так как же, господа? Ведет она в Лондон? Сделайте такую милость, ответьте бедному человеку.
— Тебе, значит, в Лондон нужно, так, что ли? Ну вот и иди себе, иди.
И без дальнейших разговоров два вола в человечьем обличье, чье деревенское любопытство было теперь полностью удовлетворено, с неподражаемой флегмой снова взялись за свои мотыги, нимало не сомневаясь, что сообщили незнакомцу все требуемые сведения.
Вскоре после этого Израиль миновал старинную темную часовенку с обомшелыми стенами. На крыше ее лежал слой сырых пожухлых листьев, которые прошлой осенью осыпались с могучих ветвей старых корявых деревьев, росших позади нее. Минуту спустя Израиль очутился в деревне. Ее еще одевала тишина раннего утра. Но кое-где уже мелькали человеческие фигуры. Заглянув в окно пока еще безмолвного кабака, Израиль разглядел стол, заставленный пустыми кружками и кувшинами, между которыми виднелись кучки табачного пепла и трубки с длинными мундштуками — некоторые были сломаны.
Задержавшись там на мгновенье, он пошел дальше и вдруг заметил, что на противоположной стороне улицы стоит какой-то человек и пристально на него смотрит. Тут Израиль сообразил, что до сих пор разгуливает в одежде английского матроса и это не может не привлекать к нему внимания. Отлично понимая, какой бедой грозит ему этот наряд, Израиль ускорил шаги, чтобы побыстрее уйти из деревни. Он твердо решил при первой же к тому возможности сменить платье. Примерно в миле от деревни он встретил на пустынной дороге старика землекопа, который брел к месту своей работы, пошатываясь под тяжестью мотыги, кирки и лопаты — сущее воплощение беспросветной нужды и горя. Одет он был в жалкие лохмотья.
Поравнявшись со стариком, Израиль пожелал ему доброго утра и спросил, не согласится ли он поменяться с ним платьем. Его собственный костюм по сравнению с одеянием землекопа казался поистине княжеским, и Израиль рассудил, что из корысти старик промолчит об этой сделке, какой бы подозрительной она ему ни показалась. Итак, они укрылись за изгородью, и вскоре Израиль появился из-за нее самым жалким оборванцем, а старый землекоп заковылял в противоположном направлении, облаченный в одежду, которая могла бы показаться вполне благопристойной, если бы не сидела на нем столь нелепо: широченные штанины матросских брюк плескались вокруг его тощих ног, а в куртке он просто тонул. Но Израиль! Какой плачевный, надрывающий душу вид! Он и не подозревал, что эти гнусные лохмотья как нельзя более подходили для ожидавших его бесконечных и тягостных лишений: краткие месяцы приключений и странствий и сорок мертвящих лет нищеты. Куртка состояла из сплошных заплат. И ни одна заплата не была похожа на другую, и ни одна не совпадала по цвету с материей, из которой некогда была сшита куртка. Ветхие штаны зияли прорехой на колене; у длинных шерстяных чулок был такой вид, будто им не раз пришлось послужить на своем веку мишенью. Израиль, казалось, во мгновение ока превратился из молодого человека в дряхлого старца; ему можно было дать теперь восемьдесят лет. Впрочем, впереди его ждала тяжкая, неизбывная беда, а истинная старость приходит с бедой, постигает ли она человека в восемнадцать лет или в восемьдесят. И для подобной судьбы наряд этот был самым подходящим.
Читать дальше