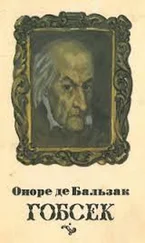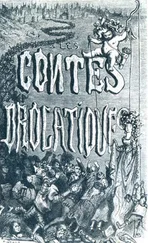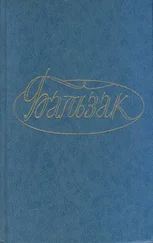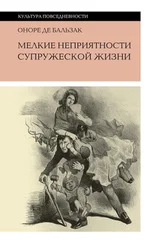— Но сколь далеко простирается ее расположение к такому старому, полуседому вояке, как ты? — спросил Филипп.
— Слава богу, — ответил Жирудо, — я еще придерживаюсь прежних правил нашей славной военной чести и ни разу не израсходовал ни гроша на женщину.
— Что? — вскрикнул Филипп, прищурив левый глаз.
— Да, — ответил Жирудо. — Но, между нами, газета здесь здорово помогла. Завтра мы в двух строках посоветуем администрации выпустить Флорентину в танце. Честное слово, мой дорогой, я очень счастлив, — сказал Жирудо.
«Э, — подумал Филипп, — если этот почтенный Жирудо, несмотря на то, что череп у него лыс, как мое колено, несмотря на сорок восемь лет, толстое брюхо, физиономию кабатчика и нос картошкой, заводит шашни с фигуранткой, то я заполучу первую актрису Парижа».
— Где живет она? — громко спросил он Жирудо.
— Сегодня вечером я тебе покажу Флорентину в домашней обстановке. Моя Дульцинея получает в театре только пятьдесят франков в месяц, но Кардо, бывший торговец шелком, дает ей пятьсот франков в месяц, и она одевается шикарно.
— О! Но... — воскликнул ревнивый Филипп.
— Ба! — заметил Жирудо. — Настоящая любовь слепа.
После спектакля Жирудо отвел Филиппа к Флорентине, жившей в двух шагах от театра, на улице Крюсоль.
— Будем вести себя прилично, — сказал ему Жирудо, — Флоринтина живет с матерью. Ты понимаешь, нанимать ей подставную мамашу мне не по средствам, и эта почтенная женщина — ее настоящая мать. Она бывшая привратница, но неглупа и именуется Кабироль; называй ее «мадам», она это очень любит.
В тот вечер у Флорентины была ее подруга, некая Мари Годешаль, прекрасная, как ангел, холодная, как танцовщица, и, кроме всего прочего, ученица Вестриса [17] Вестрис Мари-Огюст (1760—1842) — танцор Парижской оперы.
, который предрекал ей самое блестящее будущее в хореографическом искусстве. Мадемуазель Годешаль, желавшая в то время выступать в Драматической панораме под именем Мариетты, рассчитывала на протекцию первого вельможи в палате, которому Вестрис должен был представить ее уже давно. Вестрис, еще бодрый в то время, не считал свою ученицу достаточно подготовленной. Честолюбивая Мари Годешаль прославила свой псевдоним Мариетты, но, впрочем, ее стремление преуспеть было вызвано весьма похвальными чувствами. У нее был брат, писец, служивший у Дервиля. Оставшись сиротами, несчастные, но любящие друг друга брат и сестра видели жизнь такой, какова она в Париже; он хотел стать стряпчим, чтобы устроить свою сестру, и жил на десять су в день; она трезво решила стать танцовщицей и, извлекая пользу как из своих ног, так и из своей красоты, купить контору для своего брата. Все, что не касалось их привязанности друг к другу, их интересов и общей их жизни, было для них — как некогда другие народы для древних римлян и евреев — чем-то варварским, странным, враждебным. В этой столь прекрасной дружбе, которую ничто не могло нарушить, и заключалось объяснение характера Мариетты для тех, кто близко знал ее.
Брат и сестра жили в то время на девятом этаже одного дома по улице Вьей-дю-Тампль. Мариетта начала обучаться с десяти лет, а теперь ей было шестнадцать. Увы! Она была плохо одета, и если, несмотря на ее шаль из кроличьей шерсти, на ситцевое платье и грубые башмаки, подбитые железными гвоздями, кто-нибудь мог оценить ее красоту, то только те из парижан, что заняты охотой на гризеток и выслеживанием нуждающихся красавиц.
Филипп влюбился в Мариетту. Мариетта оценила в нем командира гвардейских драгун, ординарца императора, молодого человека двадцати семи лет и нашла удовольствие в том, чтобы превзойти Флорентину, ввиду явного превосходства Филиппа над Жирудо. Флорентина и Жирудо, — он, чтобы содействовать счастью своего приятеля, она — чтобы доставить своей подруге покровителя, — толкнули Мариетту и Филиппа на заключение «птичьего брака». Это выражение парижского языка равнозначно выражению «морганатический брак», применяемому к королям и королевам. Филипп на обратном пути рассказал Жирудо о своей бедности; но старый проходимец весьма его обнадежил.
— Я поговорю о тебе со своим племянником Фино, — сказал он ему. — Видишь ли, Филипп, настало царство штафирок и болтунов, нам приходится покориться. В наши дни чернильная братия всемогуща. Чернила заменили порох, а слово — пулю. Но, как бы там ни было, эти жулики журналисты — ловкачи на выдумку и довольно славные ребята. Приходи ко мне завтра в редакцию, я замолвлю за тебя словечко перед племянником, и ты получишь место в какой-нибудь газете. Мариетта, которая теперь (не обольщайся) берет тебя потому, что у нее ничего нет, ни ангажемента, ни возможности выступать, — а я сказал ей, что ты будешь пользоваться в газете таким же весом, как и я, — докажет, что она любит тебя ради тебя самого, и ты ей поверишь! Поступай подобно мне, удерживай ее в положении фигурантки, пока сможешь. Я был так влюблен, что, когда Флорентина захотела выступить в танце, я попросил Фино потребовать для нее дебюта; но племянничек мне сказал: «У нее есть способности, не так ли? Так вот, в тот день, когда она выступит, она выставит тебя за дверь». Вот каков Фино. Ты увидишь, что это за смышленый малый!
Читать дальше

![Оноре Бальзак - Мелкие неприятности супружеской жизни [сборник]](/books/35173/onore-balzak-melkie-nepriyatnosti-supruzheskoj-zhizn-thumb.webp)