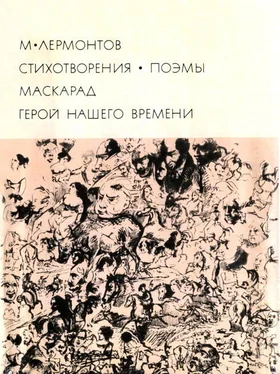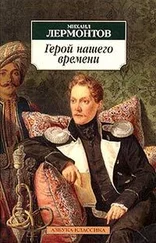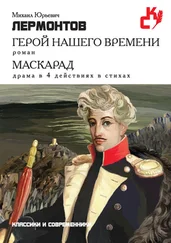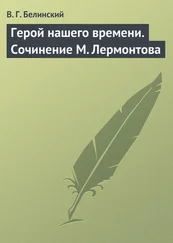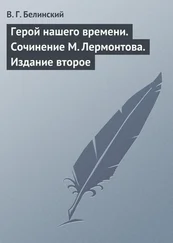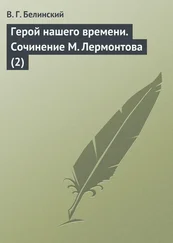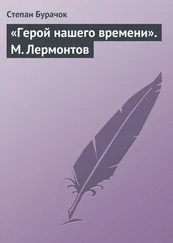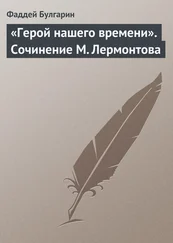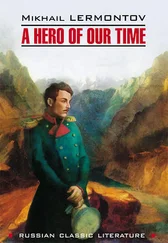6. На обратном пути из Персии Печорин умирает («Предисловие к «Журналу Печорина»).
Однако Лермонтов предпочел иную расстановку повестей и сначала описал Печорина «извне», а потом «изнутри», сперва таким, как воспринимает его человек иного социального круга — Максим Максимыч, затем — с точки зрения странствующего офицера, пересказывающего историю Бэлы. И только после этого читатель узнает о смерти Печорина и знакомится с его «Журналом», то есть с его собственными суждениями о самом себе. Так цикл повестей, связанных между собой образом героя, превратился в первый в русской литературе психологический роман.
Фрагментарность романа освобождала Лермонтова от необходимости рассказывать биографию героя, позволяла ограничиваться намеками. «Честолюбие мое подавлено обстоятельствами», — записывает Печорин. И читателю нетрудно угадать: это намек на ссылку. «Мы не способны более, — говорит он, — к великим жертвам… для блага человечества», подразумевая под «благом человечества» свободу. В борьбе с самим собой он истощил жар души и постоянство воли, «необходимые для действительной жизни», — для жизни — действия, для борьбы. «Я стал не способен к благородным порывам», — записывает он. Печорин презирает себя, сетует, что жизнь его «становится пустее — день ото дня». Потому-то он и разыгрывает «жалкую роль палача» княжны Мери и Грушницкого в «комедии», которую затеял, ибо не знает, чем утолить тоску по настоящей жизни, убить силы, достойные настоящего дела.
Суд Печорина над самим собой был воспринят как обвинение всему общественно-политическому строю николаевской России. Намеки Лермонтова угадывались. «Читая строки, — замечал Белинский, — читаешь и между строками; понимая ясно все сказанное автором, понимаешь еще и то, чего он не хотел говорить, опасаясь быть многоречивым».
Николай I и реакционная критика утверждали, что Печорин выглядит как клевета на современность. Редактор журнала «Маяк» С. Бурачок писал: «Весь роман — эпиграмма, составленная из беспрерывных софизмов, так что философии, религиозности, русской народности и следов нет». При этом Бурачок утверждал, что Печорин — сам Лермонтов, и тем самым относил к Лермонтову политическую характеристику его героя.
В ответ на попытки журналистов реакционного лагеря опорочить автора и умалить значение лермонтовского романа Белинский, разбирая характер Печорина, писал: «Эгоист, злодей, изверг, безнравственный человек!..» — хором закричат, может быть, строгие моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то из чего хлопочете? за что сердитесь?.. Вы предаете его анафеме не за пороки, — в вас их больше и в вас они чернее и позорнее, — но за ту смелую свободу, за ту желчную откровенность, с которой он говорит о них… Да, в этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет; в самых пороках его проблескивает что-то великое… Ему другое назначение, другой путь, чем вам. Его страсти — бури, очищающие сферу духа; его заблуждения, как ни страшны они, острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь…»
Печорин вступил в жизнь после восстания декабристов, а умер в конце 30-х годов, еще до того, как на историческую сцену выступили новые общественные силы. Он герой промежуточной эпохи. Об этом и говорил Белинский, когда указывал на «переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет, я в котором человек есть только возможность чего-то действительного в будущем и совершенный призрак в настоящем».
Печорин стремился к личной свободе. Он понимал ее как разрыв с аристократическим обществом. Он замкнулся в себе и погиб в одиночестве.
Стр. 579. Гурда — название лучших клинков на Кавказе, по имени оружейного мастера Гурда.
Стр. 589. Ученый Гамба — Жан Франсуа Гамба, французский консул в Тифлисе, много путешествовавший по Кавказу. Гамба оставил записки, в которых по ошибке назвал Крестовую гору горой святого Кристофа. Слова «ученый Гамба» Лермонтов употребляет иронически.
Стр. 614. Гетева Миньона — героиня романа Гете «Ученические годы Вильгельма Майстера» (1821–1829).
Стр. 618. «Последняя туча рассеянной бури» — первая строчка из стихотворения Пушкина «Туча».
Стр. 626. Римские авгуры — жрецы-гадатели.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу