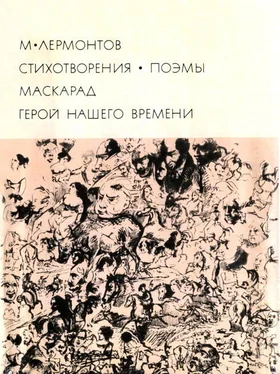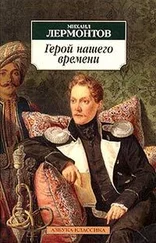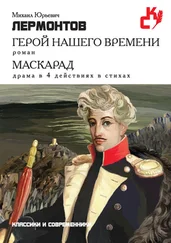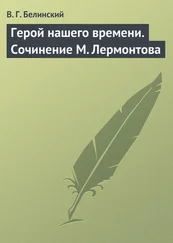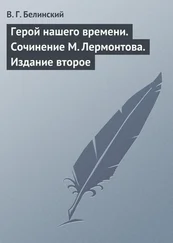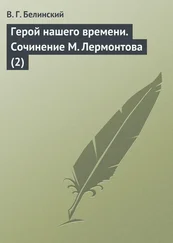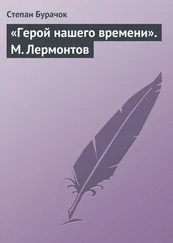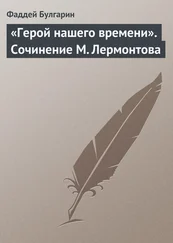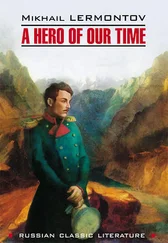Продолжая работу над пьесой, Лермонтов подверг текст дальнейшей переработке, в особенности сцену, в которой Арбенин мстит князю Звездичу. Так же как и якушкинская копия, первая завершенная редакция «Маскарада» кончалась смертью Нины.
Беловой вариант первой редакции, заключавшей в себе три акта, Лермонтов представил осенью 1835 года в драматическую цензуру III Отделения, чтобы получить разрешение на постановку пьесы на сцене «императорского санкт-петербургского театра». Этот текст до нас не дошел. Содержание его известно только из пересказа цензора Е. Ольдекопа, запретившего ставить пьесу на сцене и потребовавшего от Лермонтова решительных переделок. «Не знаю, — писал Ольдекоп в своем отзыве, — может ли пройти пьеса даже с изменениями; в особенности сцена, когда Арбенин кидает карты в лицо князю, должна быть совершенно изменена. Я не могу понять, как мог автор бросить следующий вызов костюмированным балам в доме Энгельгардтов:
Я объявить вам, князь, должна,
Что эта клевета нимало не смешна.
Как женщине порядочной решиться
Отправиться туда, где всякий сброд,
Где всякий ветреник обидит, осмеет,
Рискнуть быть узнанной… вам надобно стыдиться,
Отречься от подобных слов».
(ЦГИА СССР, ф. № 780, on. 26, № 11).
Выражая мнение главного начальника III Отделения генерала Бенкендорфа, Ольдекоп требовал от Лермонтова переделок такого характера, чтобы пьеса «кончилась примирением между господином и госпожою Арбениными». Главный недостаток пьесы, по словам цензора, состоял в том, что порок оставался в ней ненаказанным.
Желая избегнуть коренной переработки драмы, Лермонтов дополнил ее четвертым актом и, полагая, что возмездие, олицетворенное в образе Неизвестного, будет достаточным «наказанием порока», решил представить новую редакцию на вторичное рассмотрение цензуры. Уезжая в отпуск в Тарханы (около 20 декабря 1835 г.), Лермонтов поручил С. А. Раевскому передать экземпляры пьесы в цензуру и директору императорских театров А. М. Гедеонову.
Находясь в Тарханах, Лермонтов продолжал беспокоиться о судьбе «Маскарада». «Я опасаюсь, — писал он Раевскому 16 января 1836 года, — что моего «Арбенина» снова не пропустили, и этой мысли подало повод твое молчание». Действительно, в январе 1836 года драма Лермонтова была снова отклонена. Во вторичном своем докладе Ольдекоп указывал, что «автор не подумал вовремя воспользоваться» указаниями, сделанными ему цензурой. «В новом издании, — писал он, — мы находим те же неприличные нападки на костюмированные балы в доме Энгельгардтов (ст. 16–46), те же дерзости против знатных дам высшего общества (18). Автор захотел прибавить другой конец, не тот, который был ему назначен (т. е. не воспользовался советом Бенкендорфа примирить Арбенина с Ниной. — И. А. ). …Драматические ужасы прекратились во Франции, — с негодованием заключал цензор, — нужно ли вводить их у нас, нужно ли вводить их отраву в семьях? Дамские моды, употребляемые в Париже, переняты у нас; это невинно, но перенимать драматические уродства, от которых отвернулся даже Париж, это более чем ужасно, это не имеет имени» (Оригинал по-французски; ЦГИА СССР, ф. № 780, оп. 26, № 11).
Возвратившись в Петербург, Лермонтов приступил к работе над третьей редакцией «Маскарада». Настойчивое стремление видеть свою драму на сцене побудило его на этот раз учесть требования цензуры. Поэт коренным образом переработал сюжет, действительное отравление Нины превратил в мнимое, сумасшествие Арбенина заменил отъездом его в деревню, ввел в пьесу новое лицо — олицетворение добродетели, — Оленьку. Перерабатывая драму, Лермонтов старался сохранить хотя бы характер Арбенина. Устранив из пьесы почти все, что разоблачало маскарад великосветской жизни, Лермонтов вынужден был переменить и название. Новую пятиактную драму он озаглавил «Арбенин». Все эти перемены, разрушившие первоначальный замысел, были закончены Лермонтовым 28 октября 1836 года. Однако поставить драму III Отделение не разрешило даже и в этой редакции.
В своих показаниях по делу о стихах на смерть Пушкина Лермонтов писал: «Драма «Маскарад» в стихах, отданная мною на театр, не могла быть представлена по причине (как мне сказали) слишком резких страстей и характеров и также потому, что в ней добродетель недостаточно награждена».
Однако истинная причина заключалась в том, что политическая и сатирическая пьеса Лермонтова, продолжавшая традиции «Горя от ума», воспринималась как дерзкий вызов придворной аристократии. «Пришло ему на мысль, — писал в своих воспоминаниях о Лермонтове А. Муравьев, хорошо знавший обстоятельства этого дела, — написать комедию вроде «Горя от ума», резкую критику на современные нравы… Лермонтову хотелось видеть ее на сцене, но строгая цензура III Отделения не могла ее пропустить… даже цензура получила неблагоприятное мнение о заносчивом писателе, что ему вскоре отозвалось неприятным образом».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу