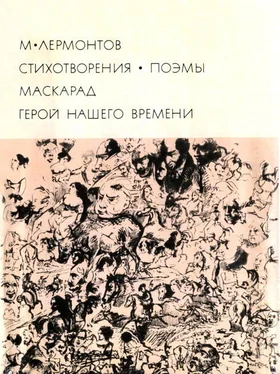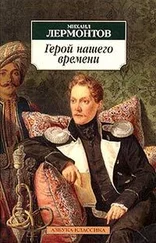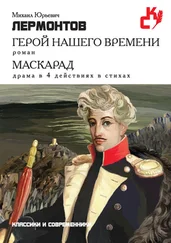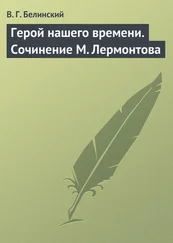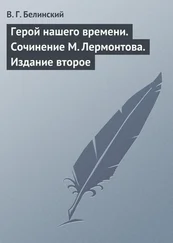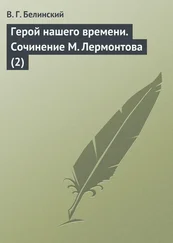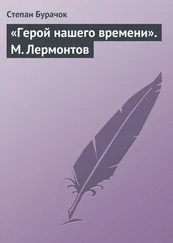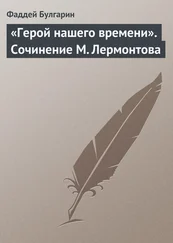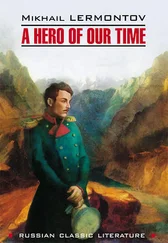Причем самая тема стихотворения и появление его на страницах пушкинского журнала сообщали этому выступлению программный характер.
Впервые в русской поэзии рассказывает о великом событии и дает ему историческую оценку солдат, рядовой участник сражения. В стихотворении нет ни одного имени — ни царя, ни полководцев, только один безымянный «полковник-хват». Бородинская битва описана «изнутри», изображена самая гуща боя. Лермонтов описывает сражение очень конкретно и точно: солдат в стихотворении — артиллерист, место сражения — курганная батарея Раевского. Язык рассказчика полон метких изречений и простонародных словечек. В основу «Бородина» легли рассказы участников исторической битвы, в том числе родственников Лермонтова, отличившихся на Бородинском поле.
При Николае I солдатская служба продолжалась двадцать пять лет. В середине 30-х годов еще не окончили срока многие ветераны Отечественной войны. И Лермонтов воспроизводит характерную для того времени военно-бытовую сцену — разговор поколений о причинах поражения Наполеона. Однако смысл «Бородина» не сводится к точности описаний и верности исторической оценки сражения. Белинский в статье (1841) о стихотворениях Лермонтова отмечал, что вся основная идея «Бородина» выражена во втором куплете, которым начинается ответ старого солдата:
— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
«Эта мысль — жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел», — писал Белинский, указывая, что «тоска по жизни» связывает «Бородино» с целым рядом стихотворений Лермонтова, полных «энергии и благородного негодования». Великий критик раскрыл связь между «Бородином» и «Думой», показал, что, даже обращаясь к истории, Лермонтов откликался на самые животрепещущие вопросы современности.
Лев Толстой назвал «Бородино» — «зерном» своей «Войны и мира».
Замысел стихотворения относится к 1831 году (см. «Поле Бородина»).
Ветка Палестины(стр. 131) Знакомый Лермонтова, Андрей Николаевич Муравьев — видный сановник и литератор, утверждал, что «Ветка Палестины» была написана в его квартире, когда Лермонтов приезжал к нему с просьбой похлопотать по делу о стихах на смерть Пушкина. «Долго ожидая меня, — говорит Муравьев, — написал он… чудные свои стихи «Ветка Палестины», которые по внезапному вдохновению у него исторглись в моей образной, при виде палестинских пальм, принесенных мною с Востока».
В копии под заглавием вычеркнуто: «Посвящается А. М — ву», то есть А. Муравьеву.
Узник(стр. 132). — По словам родственника Лермонтова А. П. Шан-Гирея, стихотворение было написано в феврале 1837 года, когда Лермонтов сидел под арестом в здании Главного штаба за сочинение стихов на смерть Пушкина. В это время к нему пускали только его камердинера, приносившего обед. Поэт велел ему завертывать хлеб в серую бумагу и на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спички написал несколько стихотворений: «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я, матерь божия, ныне с молитвою…», «Кто б ни был ты, печальный мой сосед…» И переделал старую пьесу «Отворите мне темницу…». Этот рассказ подтверждается дошедшим до нас автографом «Узника» («Отворите мне темницу…»), написанным с помощью спички и сажи.
«Когда волнуется желтеющая нива…»(стр. 133) А. П. Шан-Гирей в своих воспоминаниях утверждал, что стихотворение написано в феврале 1837 года, когда Лермонтов находился под арестом в здании Главного штаба. Это утверждение не расходится с датой, которую Лермонтов выставил в сборнике стихотворений 1840 года: «1837».
Молитва(«Я, матерь божия, ныне с молитвою…») (стр. 134). — В письме к Марии Лопухиной от 15 февраля 1838 года озаглавлено «Молитва странника». Странником Лермонтов иносказательно называет себя в стихах, написанных в год ссылки. Посылая письмо из Петербурга в Москву, уже после возвращения из ссылки, Лермонтов пишет о том, что случайно нашел стихотворение это в дорожных бумагах и что оно ему «довольно-таки нравится именно потому, что я забыл его — впрочем, это ничего не доказывает». Стихотворение относится, очевидно, к Варваре Лопухиной.
«Расстались мы, но твой портрет…»(стр. 134). — Представляет собою переработку юношеского стихотворения «Я не люблю тебя; страстей // И мук умчался прежний сон…», написанного в 1831 году и обращенного к Е. А. Сушковой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу