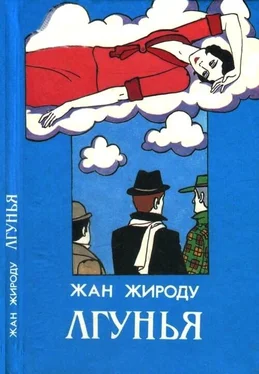Он попытался на будущее отказаться от этой роли. Приходил на свидания то мрачным, то чересчур требовательным. Мучительная неуверенность, сомнения в собственных поступках и чувствах делали его нервным, почти грубым. Не следует думать, будто дурное настроение, которое он срывал на Нелли, объяснялось только ее жестами и обликом. Она-то ничуть не изменилась под этим градом капризов и едких упреков, удивляясь им ровно настолько, насколько удивилась бы подлинная Нелли, ласково успокаивая и утешая его. Ибо величие Нелли заключалось не в одной способности к банальной мимикрии, оно зиждилось на куда более солидной основе. Но Реджинальду не становилось легче от сознания того, что в нем скрывается обличитель.
В течение последующей недели он не удержался от искушения заставить ее лгать, побудив рассказывать о странах, где она никогда не бывала. Просто невероятно, как она умела скрывать или приукрашивать то, что Реджинальд мало-помалу узнавал от нее. Никто не назвал бы это ложью, — скорее, родом стыдливости. Легко, непринужденно и, одновременно, с инстинктивной робостью непорочнейшей из дев она одной удачной недомолвкой могла завуалировать все, что ее истинная жизнь заставляла скрывать от него. Она проделывала это столь искусно, что иногда Реджинальду казалось, будто все тайны Нелли движут ею не более, чем первородный грех движет любою из женщин. Иными словами, то было чисто теоретическое, весьма спорное влияние: если первородный грех сделал Нелли вульгарной и черствой, то ложь освобождала ее от этих недостатков, озаряя ее истинную жизнь ослепительным светом правды. В общем, то была сложная игра; она сбивала Реджинальда с толку тем более, что его донимала ревность. Он пытался бороться с нею, внушал себе, что Нелли свободна в своих действиях. Но тщетно он силился вспомнить, какие клятвы, какие свидетельства верности она давала ему: он с тоской обнаруживал, что эта женщина, которую он считал своей-единственной возлюбленной, ни разу не сказала ему, что любит только его, что у нее нет другого любовника, что она не живет с другим мужчиной, с двумя мужчинами, со всеми мужчинами на свете. Эта женщина, созданная для него одного, никогда не уверяла его, что не принадлежит любому. В этом пункте никакого обмана не было. Она никогда не отмежевывалась от всего, что есть страшного в жизни, не говорила, что у нее нет тиранки-матери, смешного и нелепого друга, мелкого, банального существования. Он пытался заставить ее сказать — с помощью всяческих уловок, на какие поддалась бы любая другая женщина в порыве нежности или по неспособности смолчать, — что она живет только для него, только с ним. Но ни разу его старания не увенчались успехом. Казалось, она ничего не знает о своей второй жизни, однако, никоим образом не склонна компрометировать себя отречением от нее. Она просто делала для настоящего то, что многие другие любовники делают для будущего: умалчивала. Сколько раз его одолевало искушение выдать себя и объявить ей, что он знает все. Но он неизменно сдерживался; его останавливало что-то вроде жалости, какую испытывают к сомнамбуле перед тем, как выкрикнуть ее имя.

Нелли, разумеется, сразу заметила перемену в настроении Реджинальда. Но сначала это ее не обеспокоило, — напротив, она приняла происходящее за счастливое изменение к лучшему в его натуре и любви к ней. Она не сердилась на его возрастающую нервозность, на беспокойство и недовольный вид. Конечно, это прекрасно, когда два существа божественного порядка любят друг друга, но именно их совершенство сохраняет любовь в статичности, не совсем желательной для людей. Тот факт, что Реджинальд больше не желал жить в прежней олимпийски-спокойной атмосфере, явился для нее передышкой, проявлением чисто человеческой стороны его натуры. В этом таилось и обещание: иными словами, Реджинальд, подобно многим нервным и активным людям, видимо, собирался сойти со своего пьедестала и заняться, наконец, ею, Нелли. Ведь и ее нередко томило ощущение того, что она не затронута, не любима по-настоящему, что их любовь заключена в непроницаемый кокон спокойствия, сообщавшего этому роману некое возвышенное благородство, но притом обрекающего их обоих на призрачное, надуманное существование. Голос Реджинальда, вдруг зазвучавший непривычно жестко, куда быстрее достигал слуха, ушей Нелли, служивших ей истинно зоркими глазами. Покинув олимпийские невозмутимые вершины, слишком близкие к вершинам олимпийского эгоизма, Реджинальд, быть может, скоро поймет, что самая счастливая и самая сильная с виду женщина нуждается в такой же помощи и поддержке, как и самая слабая. И перед нею забрезжила надежда, что она сможет наконец обрести новое убежище для своих радостей и забот, которым пока нигде не было приюта. Ибо она чувствовала, как между божественно-спокойной жизнью с Реджинальдом и сухо-расчетливой жизнью с Гастоном, между всеобъемлющей страстью и животным эгоизмом, коим она искусно уделяла точно отмеренные порции чувств, зная до сего дня лишь два их порядка — высшее проявление преданности, душевного благородства, безоглядной радости и низшее, минимальное, — постепенно возникает новый, еще незнакомый порядок, которому она пока не могла найти места. Он выражался в странных вещах: в беспричинном желании плакать, в смутной печали, в детски-наивном восторге перед красотою дня или ночи, в непонятной связи всех ее членов, всех чувств с существами и явлениями, доселе незамечаемыми — с весной, летом, со звездами вообще и какой-нибудь одной в частности. В ней нежданно зародилось что-то совсем крошечное, но вполне определенное и остро-восприимчивое, связанное со всеми абстрактными, ранее недоступными ее чувствам явлениями мира. И Нелли страдала всякий раз, как эти путы натягивались слишком туго, ибо не понимала предмета своего нового смятения и не могла распорядиться им со знанием дела. Оно стало как бы второй ее тайной, скрываемой от Реджинальда, куда более важной, казалось ей, нежели первая, поскольку она, эта тайна, появилась уже во время их романа. И не заводить же ей третьего друга для этого странного третьего сердца!
Читать дальше