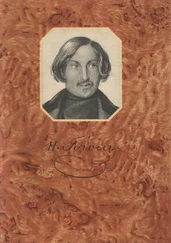В той же главе после пространного объяснения, почему он не желает называть никаких имен:"Какое ни придумай имя, уж непременно найдется в каком-нибудь углу нашего государства, благо велико, кто-нибудь, носящий его, и непременно рассердится не на живот, а на смерть, станет говорить, что автор нарочно приезжал секретно с тем, чтобы выведать все..." — Гоголь все же не смог помешать двум разговорчивым дамам, которые сплетничают о тайне Чичикова, раскрыть свои имена, словно персонажи действительно вышли из-под его власти и выбалтывают то, что он пытался скрыть. Кстати сказать, один из отрывков, в котором случайные лица потоком низвергаются на страницу (или же усаживаются верхом на перо Гоголя, как ведьмы на помело), напоминает, несмотря на некую забавную старомодность, интонацию и стилистику джойсовского "Улисса" (хотя уже Стерн пользовался приемом лаконичного вопроса и обстоятельного ответа).
"Герой, однако же, совсем этого не замечал<���то есть что наскучил молодой даме на балу своей назидательной болтовней>, рассказывая множество приятных вещей, которые уже случалось ему произносить в подобных случаях в разных местах: именно в Симбирской губернии у Софрона Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его Аделаида Софроновна с тремя золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной; у Федора Федоровича Перекроева в Рязанской губернии; у Фрола Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у брата его Петра Васильевича, где были свояченица его Катерина Михайловна и внучатные сестры ее Роза Федоровна и Эмилия Федоровна; в Вятской губернии у Петра Варсонофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна с племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными сестрами — Софией Александровной и Маклатурой Александровной".
Некоторые из этих имен отдают чем-то чужеземным (в данном случае немецким), что Гоголь, как правило, использует, чтобы передать отдаленность и зрительное искажение объекта, находящегося словно в тумане; причудливые имена-гибриды к лицу бесформенным или еще не сформировавшимся людям; и если помещик Беспечный и помещик Победоносный — слегка "пьяные" фамилии, последнее имя в перечне — уже верх кошмарной бессмыслицы и напоминает того русского шотландца, которым мы восхищались ранее. Непонятно, какой надо иметь склад ума, чтобы увидеть в Гоголе предшественника "натуральной школы" и реалистического живописания русской жизни.
В этих наименовательных оргиях участвуют не только люди, но и вещи. Обратите внимание на ласковые прозвища, которые чиновники города NN дают игральным картам. Черви — это сердца, но звучат как червяки и, при лингвистической склонности русских вытягивать слово до предела ради эмоционального эффекта, становятся червоточиной. Пики превращаются в пикенцию, обретая игровое окончание из кухонной латыни, или же в псевдогреческое пикендрасы, пичуры (с легким орнитологическим оттенком), а иногда вырастают до пичурущуха (где птица превращается уже в допотопного ящера, опрокидывая эволюцию видов). Предельная вульгарность и автоматизм этих уродливых прозвищ, большинство из которых Гоголь придумал сам, — прекрасный способ показать умственный уровень тех, кто ими пользуется.
4
Разницу между человеческим зрением и тем, что видит фасеточный глаз насекомого, можно сравнить с разницей между полутоновым клише, сделанным на тончайшем растре, и тем же изображением, выполненным на самой грубой сетке, которой пользуются для газетных репродукций. Так же относится зрение Гоголя к зрению средних читателей и средних писателей. До появления его и Пушкина русская литература была подслеповатой. Формы, которые она замечала, были лишь очертаниями, подсказанными рассудком; цвета как такового она не видела и лишь пользовалась истертыми комбинациями слепцов-существительных и по-собачьи преданных им эпитетов, которые Европа унаследовала от древних. Небо было голубым, заря алой, листва зеленой, глаза красавиц черными, тучи серыми и т. д. Только Гоголь (а за ним Лермонтов и Толстой) увидел желтый и лиловый цвета. То, что небо на восходе солнца может быть бледно-зеленым, снег в безоблачный день густо-синим, прозвучало бы бессмысленной ересью в ушах у так называемого писателя-"классика", привыкшего к неизменной, общепринятой цветовой гамме французской литературы XVIII в. Показателем того, как развивалось на протяжении веков искусство описания, могут послужить перемены, которые претерпело художественное зрение; фасеточный глаз становится единым, необычайно сложным органом, а мертвые, тусклые "принятые краски" (как бы "врожденные идеи") постепенно выделяют тонкие оттенки и создают новые чудеса изображения. Сомневаюсь, чтобы какой-нибудь писатель, тем более в России, раньше замечал такое удивительное явление, как дрожащий узор света и тени на земле под деревьями или цветовые шалости солнца на листве. Описание сада Плюшкина поразило русских читателей почти так же, как Мане — усатых мещан своей эпохи.
Читать дальше