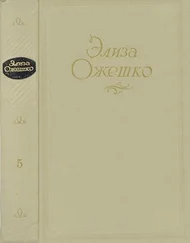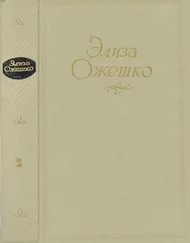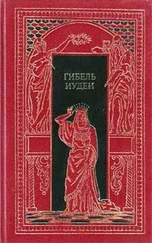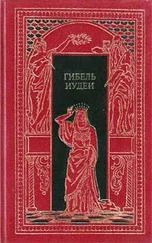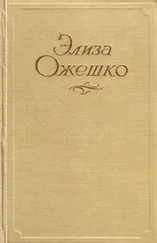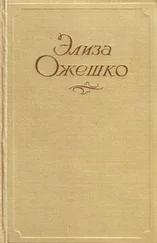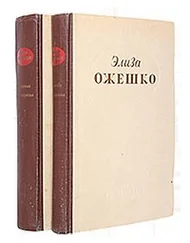— Книги, — говорил он не раз, — это для меня дело мудреное и канительное. Как только возьмешь книжку в руки, прочтешь две страницы, так или заснешь, или начинаешь думать о чем-нибудь другом. Газета — дело другое, ее можно прочесть скоро, легко понять и узнать обо всем, что делается на свете.
И вот раза два в неделю, возвращаясь из типографии, он заходил в кондитерскую и читал газеты. Его живо интересовали городские дела, он любил толковать о бездеятельности бургомистра, о несостоятельности принятой в Онгроде системы взимания налогов, о разных неудовлетворенных потребностях города, а самым горячим желанием и заветной его мечтой было место чиновника магистрата, советника, заседающего рядом с бургомистром и подающего голос за или против замощения Цветной улицы, за или против прибавки на той же улице одного фонаря. Несмотря на пристрастие к политике и к разным текущим известиям, он, однако, не выписывал ни одной газеты. В жилище Коньцов, кроме двух молитвенников, лежавших в гостиной на комоде, — между двумя подсвечниками накладного серебра и шкатулкой, украшенной раковинами, — нельзя было найти ни одного клочка печатной бумаги.
На всей обстановке Коньцов лежал отпечаток простоты и мещанских обычаев. Жилище их состояло из небольшой гостиной с двумя венецианскими окнами, выходившими в зеленый садик, из большой спальни и чистой кухни. Главным украшением гостиной был комод со своей шкатулкой и подсвечниками накладного серебра, а так же и оконные занавески, — искусное дело трудолюбивых рук панны Теодоры. Вдоль стен, разрисованных голубыми цветочками, и за столами желтели простые ясеневые стулья, а единственными предметами, с претензией на роскошь, привезенными сюда пани Ядвигою, были: зеркало в золоченой раме и больдтя лампа, стоявшая на столе перед желтым комодом. Когда я в первый раз вошла сюда с панной Теодорой, она начала показывать мне занавески, скатерть, покрывавшую стол, подставки под подсвечниками и множество других мелочей из шерсти и гаруса.
— Все это моя работа, — шептала она, — я душой и сердцем хотела бы доставить какое-нибудь удовольствие брату, украсить его жилище, услужить ему и привлечь к себе его сердце… Я иногда по целым ночам работаю, платья себе не куплю, чтоб только сделать ему какой-нибудь сюрприз…
В спальне также чувствовалась ее трудящаяся и услужливая рука. Там тоже находилось множество мелочей, составляющих предметы необходимости или служивших украшением комнаты, — и все это старательно и красиво было сделано панной Теодорою. Детские кроватки были покрыты вышитыми одеялами, а возле них стояло по несколько пар разноцветных башмаков. Широкое окно спальни выходило уже не в садик Коньцов, а в большой огород, за которым находилась квартира профессора танцев. Под этим окном — с работой ли в руках, без работы ли — больше всего любила сидеть пани Ядвига.
Осенью и зимой квартира профессора танцев горела огнями, над пустыми грядками носились звуки скрипки и фортепиано, а у венецианского окна целыми часами простаивала прекрасная жена пана Клеменса, прижавшись лбом к стеклу, с разгоревшимся лицом всматриваясь в окна, светящиеся из-за пелены снега или тумана. Сердце ее готово было разорваться от вздохов нетерпения. Все ее существо рвалось из тихих, тесных комнаток в танцовальную залу, душную, жарко натопленную, пыльную, тесно набитую людьми, в царство музыки, смеха и нескромного шопота. Иногда в эти минуты через двор торопливо перебегала стройная, высокая женщина. Она врывалась в спальню, становилась на колени перед задумчивой и глотающей слезы Коньцовой, обнимала ее за талию и, указывая пальцем на освещенные окна танцовальной залы, с горячей просьбой шептала:
— Ядзя! Пойдем туда! Пойдем туда!
Коньцова заламывала руки.
— Я боюсь… Клеменс может возвратиться домой.
— Он, наверно, не придет и не догадается.
— А! Не догадается! А та… доносчица, что сидит наверху?
— Может быть, та не скажет. — Она-то не скажет!
— Нужно попросить ее.
— Мне просить ее! Ни за что!
Стройная, высокая девушка начинала целовать руки Коньцовой.
— Ядзя, смилуйся! Если ты сегодня не пойдешь со мной туда, я захвораю, умру!
После этих слов пани Ядвига вскакивала с места, зажигала свечку, и обе женщины начинали наряжаться. Вернее, жена панa Клеменса наряжала сестру и, почти забывая о себе, все время любовалась прекрасной, такой же как и она, черноволосой девушкой, обнимала ее стан, целовала в лоб и глаза, смеялась и была в эти минуты совершенно счастливой.
Читать дальше