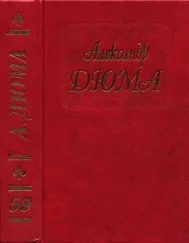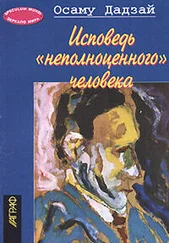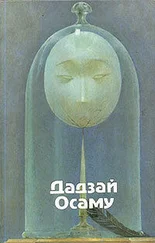— А знаешь,— говорил я Сидзуко, — смотрю на тебя и думаю: странная у тебя физиономия. Лицо этого беспечного монаха — это ведь я с тебя взял, это твоя физиономия, когда ты спишь.
— А когда ты спишь, у тебя лицо старое. Как у сорокалетнего.
— Из-за тебя. Ты из меня соки высосала.
Эх, течет река...
Что ты, ива грустная,
На брегу речном...
— Тихо, не шуми. Ложись-ка спать. Есть не хочешь? — Сидзуко спокойна, старается избежать ссоры.
— Вот сакэ бы еще выпил.
Эх, течет река...
Что ты на берегу речном...
Нет, не так.
Что ты, ива грустная,
На брегу речном...
Я пою, Сидзуко снимает с меня одежду, я кладу голову ей на грудь и засыпаю.
И так каждый день. Каждый мой день.
И завтра живи так же.
Не стоит жизни строй менять.
Избегнешь радостных страстей —
Не будет и печальных.
Огромный камень на пути
Мразь-жаба огибает.
Это стихи французского поэта Ги Шарля Круэ в переводе Уэда Бин. Когда прочел их, почувствовал, как раскраснелось мое лицо.
Жаба.
Это ведь я. Неважно, простит меня общество или не простит. Неважно, погребет оно меня или нет. Важно, что я мерзостнее собаки и кошки. Я — жаба. Ползучая тварь.
Я стал пить еще больше и уже не только в забегаловках у ближайшей к дому станции Коэндзи, но и в центре Токио. Уезжал в Синдзюку, на Гиндзу, иногда даже оставался там до утра где-нибудь в гостинице. Я старался сменить «строй жизни», вел себя в барах вызывающе, целовал всех подряд; я окунулся в запой — так же, как перед попыткой самоубийства (когда утонула Цунэко), да нет, еще сильнее, чем тогда. Горло не просыхало от сакэ и, будучи стеснен в деньгах, я дошел до того, что стал уносить из дому одежду Сидзуко.
С того времени, когда я, горько улыбаясь, глядел в окно на разодранный в клочья воздушный змей, прошло больше года. Весенним днем (уже начали распускаться листья, цвела сакура) я в очередной раз заложил в ломбард нарядный пояс и нижнее кимоно Сидзуко, деньги пропил в барах на Гиндзе, две ночи не ночевал дома, на третий день вечером с мыслями, соответствовавшими мрачному настроению, направился домой. Очень тихо прошел в квартиру и остановился перед комнатой Сидзуко. Оттуда доносился ее разговор с дочерью.
— А зачем тогда он пьет?
— Видишь ли, детка, папа пьет не оттого, что любит пить. Он очень, очень добрый человек, и именно поэтому...
— А что, все добрые люди пьют?
— Не совсем так, доченька...
— Ой, как он удивится, наверное, правда, мама?
— Ему это может и не понравиться... Гляди, гляди, он выскочил из коробки.
— Как «Вертлявый Пин-тян», правда, мама?
— Похож.
Сидзуко засмеялась своим низким голосом, и столько неподдельной радости я услышал в нем!
Я чуть приоткрыл дверь и заглянул в щелку: по комнате прыгал зайчонок, мать и дочь гонялись за ним.
«Они сейчас обе счастливые. Но стоит только мне, дураку, зайти — и их радость моментально развеется... До чего же они прекрасны — и мать, и дочь. О Боже, если ты можешь внять молитве такого, как я, — прошу тебя, дай им счастья! Один раз, раз только услышь глас мой! Умоляю тебя...»
Я еле сдержал порыв сесть на корточки и молитвенно сложить ладони. Тихо прикрыл дверь и ушел. Пошел на Гиндзу и более в этом доме не появлялся.
Вот... Потом опять играл роль альфонса — нашел приют в маленьком баре, каких множество в районе Кёбаси.
Общество. Кажется, мне все же удалось наконец в какой-то мере постичь смысл этого понятия. Всего-навсего соперничество индивидуумов, соперничество сиюминутное и конкретное, в котором каждый непременно стремится победить,— вот что это такое. Человек никогда так просто не подчинится другому человеку — раб и тот старается одержать победу, хотя бы ценой низкого раболепия. Вот почему люди, чтобы выжить, не смогли придумать ничего лучше, кроме как перегрызать горло друг другу. На словах ратуют за что-то великое, но цель усилий каждого — «я» и затем снова «я». Проблемы общества — это проблемы каждого «я», океан людей — не общество, это множество «я».
Придя к таким выводам, я несколько освободился от страха перед этим иллюзорным океаном, я больше не волновался, как прежде,— бесконечно и по всякому поводу, научился в какой-то степени хитрить, так сказать, в соответствии с нуждами текущего момента.
Итак, у меня больше нет дома в районе станции Коэндзи, теперь я перешел жить к хозяйке бара в Кёбаси.
— К тебе сбежал.
Этих слов было достаточно, раунд завершился, и с той ночи я оставался спать у «мадам» на втором этаже ее бара. Но общество, казавшееся мне прежде таким страшным, не обрушилось на меня с упреками, и не возникало необходимости в чем- либо перед кем-либо оправдываться. «Мадам» хочет так — и ладно.
Читать дальше