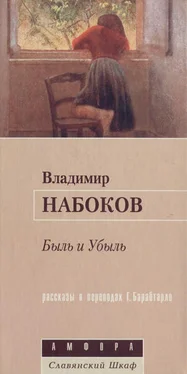Я велел ему уходить.
Когда затих последний залп моей захлебывающейся речи, он сказал:
— Я ухожу, но запомните, пожалуйста, что в этой стране… — и он с шутливой укоризной погрозил мне согнутым на немецкий манер пальцем.
Пока я решал, куда бы его ударить, он выскользнул. Меня била дрожь. Моя неловкость, порой забавляющая меня и даже чем-то неуловимо приятная, теперь казалась мне отвратительно низкой. Неожиданно мой взгляд упал на шляпу д-ра Туфлинга, лежавшую на кипе старых журналов под телефонным столиком в прихожей. Я бросился к окну, выходившему на улицу, открыл его и, когда д-р Туфлинг показался четырьмя этажами ниже, швырнул шляпу в его направлении. Она описала параболу и блином шлепнулась на середине улицы. Там она сделала сальто, едва не угодив в лужу, и легла, так сказать, вниз головой. Д-р Туфлинг, не глядя, помахал рукой, дескать, вижу, признателен, подхватил шляпу, проверил, не слишком ли она выпачкалась, надел ее и удалился, развязно повиливая ляжками. Я часто спрашиваю себя, отчего это худощавые немцы в макинтоше всегда имеют такой дородный тыл.
Остается рассказать, что неделю спустя я получил письмо, своеобразный слог которого многое бы потерял в переводе:
«Милостивый Государь, — говорилось в нем, — всю жизнь Вы преследуете меня. Мои друзья, прочитав Ваши книги, отворачиваются от меня, думая, будто это я автор этих безнравственных, декадентских сочинений. В 1942-м и в 1943-м немцы арестовали меня во Франции за нечто такое, чего у меня и в мыслях не было. И вот теперь в Америке, не довольствуясь тем, что Вы причинили мне столько неприятностей в других странах, Вы набрались наглости выдать себя за меня и в пьяном виде явиться в дом достопочтенной особы. Я этого так не оставлю. Я мог бы бросить Вас в тюрьму и ославить самозванцем, но, полагая, что Вам это придется не по вкусу, я согласен в виде возмещения за понесенное…»
Требуемая им сумма была весьма и весьма скромной.
Бостон, 1945 г.
Дорогой В., помимо прочего, пишу тебе, чтобы сообщить, что я наконец здесь, в стране, куда столько закатов вело. Один из первых, кого я встретил, был старый наш приятель Глеб Александрович Гекко, угрюмо пересекавший проспект Колумба в поисках petit café du coin [61] Маленькой кофейни на углу (фр.)
, где никому из нас троих уж больше не сиживать. Он, кажется, считает, что ты каким-то образом изменяешь отечественной литературе, и дал мне твой адрес неодобрительно покачивая седой головой, как если бы ты не заслуживал удовольствия получить от меня письмо.
У меня для тебя история. Это мне напоминает, т. е. эти мои слова напоминают мне те дни, когда мы писали парные, еще пенившиеся стихи, и все на свете, будь то роза, или лужа, или освещенное окно, кричало нам: «Я рифма! I'm a rhyme!» Да, вселенная эта полна возможностей. Играем, умираем; ig-rhyme, umi-rhyme. И звучная душа русских глаголов придает смысл буйной жестикуляции деревьев или какому-нибудь брошенному газетному листу, который скользит, останавливается, и снова шаркает безсильными всплесками, безкрылыми рывками, по безконечной, обметаемой ветром набережной. Но теперь я не поэт. Я пришел к тебе как та экспансивная чеховская дама, которой до смерти хотелось, чтобы ее описали.
Я женился через месяц, что-ли, после того как ты покинул Францию, и за несколько недель до того, как благодушные немцы с ревом ворвались в Париж. Хоть я могу представить документальные доказательства моего брака, я теперь совершенно убежден в том, что никакой жены у меня не было. Ее имя тебе может быть известно из другого источника, но это не имеет значения: это имя призрака. А посему я могу говорить о ней столь же безучастно, как говорил бы о герое рассказа (точнее, одного из твоих рассказов).
Это была любовь скорее с первого прикосновения, чем с первого взгляда, потому что я встречал ее несколько раз и прежде, ничего особенного при этом не испытывая; но как-то вечером я провожал ее домой, и что-то забавное, сказанное ею, заставило меня со смехом нагнуться и легонько поцеловать ее волосы. И кому же не знаком этот ослепительный взрыв, вызванный всего-навсего тем, что с пола подобрал небольшую куклу в доме, который тщательно нашпиговали прежде чем его покинуть: оказавшийся здесь солдат ничего не слышит; для него это всего лишь восторженное, беззвучное и безграничное распространение того, что всегда было точкой света в темном центре его бытия. Да и то сказать, мы думаем о смерти в райских терминах оттого, что видимая твердь, особенно ночью (над нашим затемненным Парижем с сухопарыми арками бульвара Эксельманс и безпрестанным альпийским звучанием пустынных писсуаров), кажется самым точным и вечно присутствующим символом этого огромного беззвучного взрыва.
Читать дальше