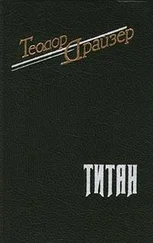В любом обществе, какое мне когда-либо приходилось видеть, Питер выделялся бы, и не внешностью, — это был человек совсем особого душевного склада. Среди безмерной скудости американской умственной жизни он был словно оазис, настоящий родник в пустыне. Он понимал жизнь. Он знал людей. Мне казалось, что он был во всех отношениях свободен: свободно мыслил, свободно чувствовал.
Чем дольше тянешь лямку непонятного, загадочного существования, тем больше ценишь эти качества в человеке: не ложную свободу сильных мира сего, тех, у кого туга мошна или тяжел кулак, а подлинную внутреннюю свободу, когда человеческий разум, сознавая свою силу и свою слабость, смело глядит в лицо природе и широким, непредубежденным взором оценивает творческие силы свои, человечества, вселенной и, решительно разрывая путы всяческих догм, в то же время остается верен всему простому и человеческому, что составляет нашу повседневную жизнь в ее здоровой, естественной основе.
Впервые я увидел Питера в Сент-Луисе в 1892 году, когда я приехал из Чикаго и поступил репортером в «Глоб-Демократ», где он работал в отделе иллюстраций. С тех пор и до последнего дня своей жизни (умер он в 1908 году) Питер ничуть не изменился: невысокий, плотный, но быстрый, даже порывистый в движениях, с густой шапкой непокорных волос на голове и всклокоченной бородой; иногда он вдруг сбривал ее, но она удивительно быстро отрастала заново. Забавно было смотреть на него, и, думается, он нарочно старался быть смешным, но при этом от него всегда веяло душевным здоровьем и силой, чувствовалось, что он не только весельчак, добрый малый, каким кажется на первый взгляд.
Несомненно, он был человек серьезный, однако с легким характером, всем своим видом он словно говорил: «А жизнь забавная штука». Одевался Питер хорошо, но на редкость небрежно. На его костюме случалось видеть чернильные или даже масляные пятна; эта неряшливость приводила в отчаяние всех, кто его знал, особенно друзей и родных. Вдобавок он вечно бывал осыпан табаком, который любил во всех видах: жевал, курил трубку, сигары и даже папиросы, если не находилось ничего лучшего. Меня всегда особенно поражало его острое чувство юмора, пристрастие к нелепым шуткам, умение посмеяться и над собой и над другими; он все воспринимал по-своему, не так, как положено. Порою он переходил все границы — должно быть от желания развлечься, как-то рассеять окружающую скуку.
И все же он любил жизнь во всей ее пестроте и многообразии, ничего не презирал и не стремился что-либо исправить или изменить. Он считал, что жизнь хороша, как она есть, удивительно хороша! Она казалась ему столь великолепной, что он не знал ни минуты покоя, — так жаждал жить, видеть, понимать, действовать. Мир был в его глазах мастерской, необъятным полем деятельности для художника, мыслителя и для простого пахаря, — и, ни к кому не относясь критически, он выше всего ставил личность, способную понять жизнь, отразить ее или творить в ней, что бы ни двигало этой личностью: чувство ли художника, или точный расчет ученого. Для него (я понимал это тогда и еще яснее вижу сейчас) не было ни возвышенного, ни низменного. Все на свете относительно. Вор — это вор, но и у него есть свое место в жизни. То же и убийца, то же и святой. Не человек, а природа задумывает или по крайней мере устраивает весь этот порядок вещей; человек же, как слепое орудие, только повинуется ему, не в силах его понять. Вульгарная проститутка на улице или в притоне могла так же потрясти и растрогать Питера, как и девственная чистота. Богатый — богат, бедняк — беден, но и тот и другой — во власти могучих сил, чьи неумолимые законы или, быть может, беззакония делают всех людей жалкими, ничтожными, а если угодно, и великими. Он сострадал невежеству и нищете, презирал тщеславие, бессмысленную жестокость, скупость, в чем бы она ни проявлялась. В нем уживались широта натуры и практичность, чувственность и одухотворенность. И хотя денег у него никогда не водилось, он был так щедро одарен природой, так живо чувствовал и мыслил, что вокруг него всегда создавалась теплая и радостная атмосфера, и жизнь, если не на самом деле, то в воображении (а оно-то и есть подлинная реальность) становилась куда лучше и отраднее. И притом он вечно прикидывался шутом, повесой, распутником, даже безумцем, вдруг огорошивал слушателей чудовищной нелепицей, проповедовал самые фантастические бредни.
Вам кажется, что я сгущаю краски? Но я говорю о человеке поистине необыкновенном.
Читать дальше