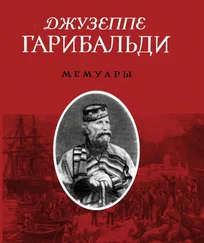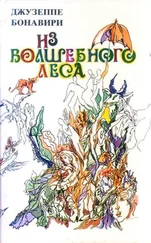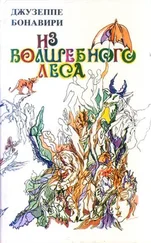— Я грешник, знаю, грешу вдвойне — перед божественным законом и перед человеческой привязанностью Стеллы. В этом нет сомнений, завтра исповедаюсь падре Пирроне. — Князь улыбнулся, подумав, что это, быть может, излишне: иезуит и так очень хорошо осведомлен о его сегодняшних проделках. Но дух ухищренья снова одолел его. — Грешу, поистине грешу, но ведь грешу, чтоб не совершить большего греха, чтоб наконец успокоиться, чтоб вырвать из тела своего эту занозу и не дать себя вовлечь в еще худшую беду. Господу Богу это известно. — Волна нежности к самому себе нахлынула на него. — Я бедный, слабый человек, — думал он, а его могучие ноги безжалостно топтали булыжник мостовой. — Я слаб, и никто меня не поддерживает. Стелла! Легко сказать! Господь знает, любил ли я ее: мне было двадцать, когда мы поженились. Слишком большую волю она теперь забрала, к тому же постарела. Ощущение собственной слабости прошло. Я еще полон сил; как же мне довольствоваться женщиной, которая в постели крестится перед каждым объятием, а потом, в минуты наивысшего волнения, только и знает, что повторять «Иезус Мария»! Когда мы поженились, когда ей было шестнадцать, меня все это трогало; но теперь… семь детей я прижил с ней, семь, а я ни разу не видел ее прелестей. Ну, справедливо ли это? — Он готов был закричать, возбужденный необычайной жалостью к себе: — Это справедливо? Я спрашиваю всех? — И, обращаясь к портику Катены, воскликнул: — Она и есть грешница!
Это открытие утешило его, и он уверенно постучал в дверь Марианнины.
Два часа спустя он уже возвращался обратно в своей коляске вместе с падре Пирроне. Священник был взволнован: собратья ознакомили его с политической обстановкой, которая была гораздо напряженнее, чем казалось в тиши уединенной виллы Салина. Опасались высадки пьемонтцев в южной части острова, со стороны Шиакка, власти обнаружили в народе глухое брожение; городской сброд ждет первого признака слабости в верхах, чтобы заняться грабежом и насилием. Отцы иезуиты встревожены, старейшие из них вечерним пакетботом отбыли в Неаполь вместе с документами монастыря. «Да защитит нас господь, и да пощадит он это христианнейшее королевство».
Князь, погруженный в сытое, но омраченное чем-то спокойствие, едва слушал священника. Марианнина глядела на него своими большими мутными глазами крестьянки, ни в чем ему не отказывала, была скромна и услужлива. Ни дать ни взять Бендико в шелковой юбочке. В минуту особой близости она даже воскликнула:
— Ну и князь!
Он до сих пор посмеивался, довольный. Уж это, конечно, лучше всяких «котиков» и «белокурых обезьянок», к которым прибегала в аналогичных случаях Сара, парижская модница; он встречался с ней три года назад, когда по случаю конгресса астрономов ему в Сорбонне вручили золотую медаль. Конечно, эго куда лучше, чем «мой котик», и уж наверняка лучше, чем «Иезус Мария», — по крайней мере никакого святотатства. Хорошая девчонка Марианнина. Он привезет ей три канны (Мера длины) шелка, когда приедет в следующий раз.
И все же, что за тоска: слишком много рук касалось ее молодого тела, слишком покорна она в своем бесстыдстве. Ну, а сам он? Кто он такой? Свинья, и больше ничего. В памяти всплыло стихотворение, случайно прочитанное в одной из книжных лавок Парижа, где он листал томик чьих-то стихов, должно быть, одного из тех поэтов, которые выпекаются во Франции каждую неделю и о которых тут же забывают. Он снова видел перед собой лимонно-желтую стопку нераспроданных экземпляров и ту страницу, страницу с нечетным числом, и снова слышал строки, которыми кончались эти странные стихи.
…Где силы взять, где храбрости набраться,
Чтоб в собственную душу заглянуть без отвращенья,
Без омерзенья видеть собственное тело.
Покуда падре Пирроне продолжал размышлять над неким Ла Фарина и неким Крипси, «Ну и князь» уснул, погруженный в схожее с отчаянием блаженство и убаюкиваемый рысью гнедых, жирные крупы которых поблескивали при свете фонарей коляски. Проснулся он лишь у поворота, перед виллой Фальконери. «Этот тоже хорош, раздувает пламя, которое его же и пожрет».
Дома в спальне вид бедной Стеллы, в чепчике, с аккуратно зачесанными волосами, вздыхающей во сне на огромной и высокой медной кровати, растрогал и привел в умиление князя. «Семерых детей родила она мне и только мне принадлежала».
В комнате стоял запах валерьянки — последнее напоминание об истерическом припадке. «Бедная моя Стеллучча!» — сокрушался он, взбираясь на кровать. Проходили часы, но уснуть он не мог. Своей могучей дланью господь соединил в его мыслях три пламени: огонь объятий Марианнины, жар французских стихов, гневное пламя повстанческих костров на горе.
Читать дальше
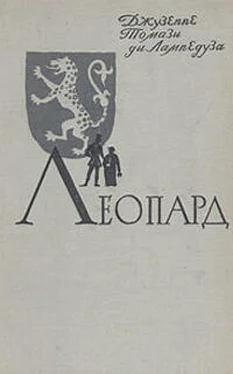
![Джузеппе ди Лампедуза - Леопард. Новеллы [сборник]](/books/35174/dzhuzeppe-di-lampeduza-leopard-novelly-91-sborni-thumb.webp)