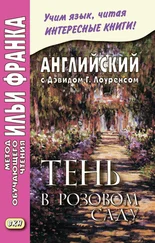А сам цыган! Иветту пробрала дрожь. Ей вспомнился взгляд его больших дерзких глаз, и во взгляде — откровенная, неприкрытая страсть. Под этим дерзким, страстным взглядом она беззащитна, перед ним не устоять. Точно в жаркой плавильне, тают ее силы и воля, меняется весь облик.
Так и не призналась она никому, что два фунта из тех злополучных денег она отдала цыганке. Вот бы узнали отец с тетей! Иветта сладко потянулась в постели. Вспомнила о цыгане, — и ожило ее тело, еще крепче закалилось сердце в ненависти к отцовскому дому: бессильная ярость и отчаяние сменялись новым чувством, напоенным силой.
Вскорости Иветта рассказала сестре, как страшным привидением возникла у нее на дороге тетя Цецилия. Люсиль взъярилась:
— Как она надоела! И что ей неймется! С этими деньгами все уши прожужжали! Господи, можно подумать, что тетя сама безгрешна! Тоже мне, пташка Божья! В конце концов, решать папе, и, раз он о деньгах больше не вспоминает, нечего и тете встревать!
Но потому-то и исходила желчью тетя Цецилия, что настоятель и впрямь ни словом не обмолвился о содеянном. Более того, он вновь стал баловать и миловать беспечную, витающую в грезах Иветту. А та, и верно, никогда не замечала, что волнует ее близких. И понятное дело, была глуха к их заботам. Это-то и бесило тетю. С какой стати сопливая девчонка, появившаяся на свет от беспутной женщины, живет припеваючи; а каково ее ближним, ей наплевать!
В последнее время стала очень раздражительной Люсиль. Приехала она в настоятельский дом, и нарушилось и душе какое-то равновесие. Бедняжка Люсиль, сколько забот легло на ее плечи: обо всем-то подумать, обо всех-то порадеть. И по хозяйству похлопотать, и врача пригласить, и лекарства заказать, и служанке отдать распоряжения. Целыми днями она корпела на работе, с десяти утра до пяти вечера при электрическом освещении. А приезжала домой — и ее донимала бабушка невыно симо въедливыми, по-стариковски бестолковыми расспросами. Люсиль приходила в исступление.
Хотя о проступке Иветты больше не упоминалось, грозовые тучи в семье не рассеивались. Да и погода стояла отвратительная. Так что в выходной Люсиль осталась дома, чем только навредила себе. Настоятель уединился в кабинете. Иветта помогала сестре шить платье (опять же для нее, Иветты). Бабушка мирно дремала на кушетке.
Материал был французский — тонкий голубой бархат, — и платье, судя по всему, получилось на славу. Люсиль попросила примерить еще раз — она ворчала, что морщит под мышками.
— Подумаешь — беда! — фыркнула Иветта, вытягивая тонкие, нежные, почти детские руки, уже чуть посиневшие от холода. — И охота тебе по пустякам волноваться! И так сойдет.
— Вот как ты меня благодаришь! Знала б, не стала бы в свой выходной спину на тебя гнуть, лучше б себе что смастерила.
— А я, между прочим, и не просила! Просто ты и минуты не проживешь, чтобы не командовать. — Говорила Иветта совсем незлобиво — это раздражало больше всего. Она подняла локотки, заглянула через плечо в большое зеркало.
— Ах, ты меня не просила? А зачем же тогда все вертелась вокруг да вздыхала? Будто я тебя не знаю.
— Ты это про меня? — чуть удивленно спросила Иветта. — Когда это я около тебя вертелась да вздыхала?
— Тебе лучше знать.
— Откуда? Откуда мне лучше знать? Так все-таки когда? — Иветта умела задавать вопросы мягко и будто невзначай — как это раздражало!
— Стой спокойно и помалкивай, а то я больше к этому платью не прикоснусь. — В голосе Люсиль уже слышалась ярость.
— До чего ж ты любишь поворчать. А тебе и слова не скажи! — заметила Иветта, крутясь перед зеркалом.
— Ну, вот что! Хватит! — Люсиль обдала сестру испепеляющим взглядом. Глаза у нее неистово горели. — Сейчас же замолчи! С какой стати мы должны терпеть твой ужасный характер и во всем тебе потакать?
— Ничего ужасного в своем характере не замечала, — сказала Иветта, осторожно стянула с себя недошитое платье и надела прежнее.
На лице ее обозначилась упрямая гримаса. Иветта подсела к столу и, хотя уже собирались сумерки, принялась шить самостоятельно. Вскоре по всей комнате валялись обрезки бархата, ножницы тоже оказались на полу, содержимое корзинки с рукоделием — на столе, а на пианино весьма ненадежно примостилось еще одно зеркало.
Бабушка дремала, свесив голову, на большой мягкой кушетке. Пробудилась, поправила чепец.
— Даже подремать спокойно не дадут, — вздохнула она, пригладила редкие седые прядки. Видно, кое-какие звуки достигли и ее тугих ушей.
Читать дальше