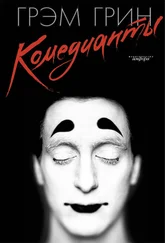— Слова наши неточны, но иногда я испытываю жалость к этому созданию. Оно постоянно ищет нужного оружия против своего врага, и оружие ломается о собственную его грудь. Иногда оно кажется мне таким… бессильным. Вы вот сказали что-то об испорченности детей. Это напомнило мне случай из моего детства. Вы первый человек… нет второй, которому я решаюсь это рассказать, может быть, потому что мы не знакомы. Это не очень длинная история, и в каком-то смысле она имеет отношение к нашему разговору.
Я сказал:
— Хочу ее услышать.
— Не ждите, что в ней будет много смысла. Но для меня в ней как будто содержится намек. И только. Намек.
Он медленно начал рассказ, тщательно подбирая слова, повернувшись лицом к стеклу, хотя ничего нельзя было разглядеть в мчащемся мире снаружи, кроме редкого семафора, освещенного окна, мигом улетающего прочь деревенского полустанка.
— Когда я был ребенком, меня научили прислуживать на мессе. Церковь была маленькая, потому что в нашем городке жило очень мало католиков. Это был маленький рыночный город в Восточной Англии посреди плоских меловых полей с канавами, множеством канав. Думаю, в городе не набралось бы и полусотни католиков, но по какой-то причине к нам традиционно относились с враждебностью. Возможно, она тянулась с шестнадцатого века, когда сожгли протестантского мученика, — это место было отмечено камнем, по средам там стояли мясные ряды. Я враждебность не особенно чувствовал, хотя понимал, что мое школьное прозвище Попик Мартин связано с религией, и слышал, что отца чуть не исключили из Конституционного клуба, когда он только приехал в город.
Каждое воскресенье я должен был надевать стихарь и прислуживать на мессе. Терпеть этого не мог — всю жизнь терпеть не мог наряжаться (что, согласитесь, странно) и при этом всегда боялся лишиться своего места на службе, сделать что-то такое, отчего буду выглядеть смешным. Наши службы отправлялись не в одно время с англиканскими, и когда наше маленькое и отнюдь не избранное общество выползало из безобразной церквушки, казалось, весь город шел мимо нас к правильной церкви — я всегда думал о ней как о правильной. Мы должны были шагать мимо шеренги их глаз, равнодушных, презрительных, насмешливых вы не представляете себе, насколько серьезно относятся к религии в маленьком городке — хотя бы даже в светском плане.
Был в особенности один человек, один из двух городских булочников, тот, у которого мои родители не покупали. Думаю, никто из католиков не имел с ним дела. Его прозвали вольнодумцем — странный титул для бедняги, вот уж кто не был волен в мыслях. Он был в путах своей ненависти. Уродлив с виду, глаз с бельмом, голова репой, плешивый и не женат. В жизни у него, казалось, не было других интересов, кроме его пекарни и ненависти, хотя теперь, во взрослом возрасте, я стал догадываться о других сторонах его натуры — может быть, в нем жила, украдкой, любовь. Иногда ты встречал его за городом на дорожке, особенно по воскресеньям, если шел один. Он будто возникал из канавы, и меловая пыль на его костюме напоминала о его рабочем комбинезоне, испачканном мукой. Он держал палку и тыкал ей в живые изгороди, а в особенно мрачном настроении выкрикивал тебе вслед непонятные отрывистые слова, звучавшие как иностранные, — теперь я, конечно, знаю смысл этих слов. Однажды в дом к нему пришла полиция — один мальчик там якобы что-то видел но дело ничем не кончилось, только путы ненависти на нем затянулись еще туже. Фамилия его была Блэкер, и он наводил на меня ужас.
Особенно, по-моему, он ненавидел моего отца. Отец работал управляющим в «Мидленд банке», и, может быть, когда-то у Блэкера были с банком неприятности: отец, человек крайне осторожный, всю жизнь очень нервно относился к деньгам, своим и чужим. Если сейчас я пытаюсь представить себе Блэкера, то вижу его идущим по узкой тропинке между глухих высоких стен, и в конце тропинки стоит десятилетний маленький мальчик — я. Не знаю, символическая ли это картина или воспоминание об одной из наших встреч — а встречи наши почему-то становились все более частыми. Вот вы сейчас упомянули об испорченности детей. Бедняга готовился отомстить всему, что он ненавидел — моему отцу, католикам, Богу, в которого упрямо верят люди, — отомстить, испортив меня. Он выработал тонкий и отвратительный план.
Помню, как первый раз мы обменялись дружелюбными словами. Я всегда старался поскорее пройти мимо его булочной и однажды услышал его притворно-подобострастный голос — словно он был слугой: «Барин, — позвал он, — мистер Дэвид». Я поспешил дальше. А в следующий раз, когда я шел мимо, он стоял в дверях (должно быть, увидел, что я иду) с витой булочкой — мы их называли «челси». Я не хотел ее брать, но он меня заставил, и тут уже, когда пришлось быть вежливым, попросил зайти в заднюю комнату лавки, посмотреть на что-то удивительное.
Читать дальше