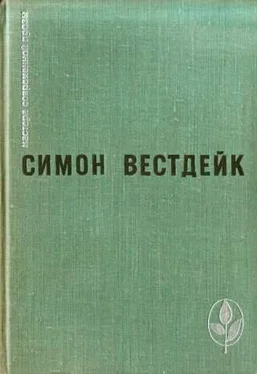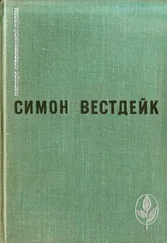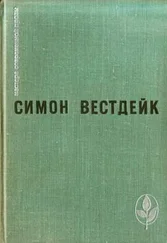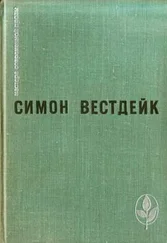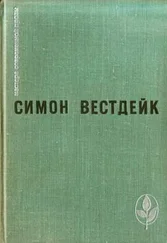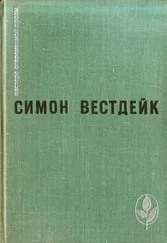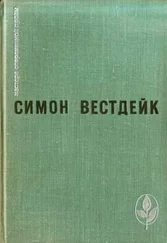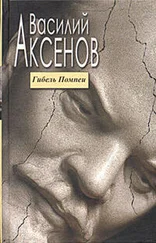В связи с тем что «Золотой лев» с понедельника превратился в зал отдыха для вермахта — не помогло жалкое состояние, в которое преднамеренно привел свое кафе Хаммер, — они собралрись у Баллегоойена. Когда Схюлтс спускался с Ван Дале в катакомбу — так он про себя называл убежище, — он думал о том, прав ли Ван Дале, что решил взять руководство операцией на себя и при этом крепко натянуть поводья. Вечер был тревожным: осенняя гроза надвигалась с запада, переливаясь всеми цветами радуги, кроме естественного цвета грозовых туч! светло-желтым, ярко-синим, розоватым; синий напоминал обычную синеву вечернего неба; очевидно, беспрерывная стрельба на фронтах повлияла и на окраску туч. Когда помощник Баллегоойена, который караулил в саду и должен был в случае опасности бросать цветочные горшки, ввел их в теплицу, первые капли тихо застучали по ее дощатой крыше; их звук напоминал шелест пальмовых листьев на ветру. Мрачно и угрюмо вырисовывалась труба теплицы на фоне необычно окрашенных туч; мрачно и угрюмо звучали над землей раскаты грома; мрачными и угрюмыми были лица Баллегоойена, Эскенса и даже Хаммера, сидевших на раскладушке; для Схюлтса и Ван Дале стояли стулья. Возможно, они были недовольны отсрочкой, подумал Схюлтс; скоро у них будут основания сердиться еще больше. На столике стоял горячий чайник, рядом электрическая лампа на перевернутом цветочном горшке, а в трех разных местах вазы со свежими георгинами, маргаритками и астрами, что, учитывая страшную дороговизну на цветы, могло считаться проявлением особого внимания. Катакомба, видимо, была раньше просто погребом; два отверстия, выходящих в сад, обеспечивали вентиляцию. Печка для обогрева теплицы находилась по другую сторону. Пахло плесенью. Поздоровавшись, Ван Дале закурил сигарету и сказал:
— Я не мог приехать раньше, чем сегодня. Баудевейн, наверное, говорил вам. Я не могу дать вам машину, если и в следующий раз все будет организовано так же плохо, как в субботу. Я не упрекаю вас, но операция проводилась по-дилетантски…
Наступило настороженное молчание. Когда Ван Дале бросил на пол спичку, Баллегоойен зло взглянул на него и кивком головы указал на пепельницу на столе. Схюлтс чувствовал, что таким тоном с этими людьми разговаривать нельзя; Ван Дале был слишком резок и не умел обходиться с людьми — на фабрике у него из-за этого часто возникали конфликты с подчиненными. Он был слишком строг и требовал военной дисциплины от всех подпольщиков. В той организации, членом которой был он лично и о которой он никогда не говорил — группа Маатхёйса была очень далеким ответвлением секретной службы и не входила в нее, — такая требовательность была уместна, но во вспомогательных организациях она не годилась.
Все молчали; тогда Схюлтс счел подходящим преподать Ван Дале урок обращения с людьми.
— Вы сидите с таким унылым видом, словно немцы взяли Ленинград, — начал он. — Арнольд не хотел сказать ничего плохого; кроме того, упрек относится и ко мне, не так ли? Но нам нечего ему возразить. Мы слишком поверили в нацистские принципы Пурстампера, а у него, видимо, вообще нет никаких принципов.
Баллегоойен поднял голову:
— Пусть тогда менеер… менеер скажет, что делать. У него машина.
— А стрелять нам, — вскипел Эскенс. — В конце концов, Пурстамперу подыхать от нашей пули, а не от его машины. Я с самого начала был против машины. Машина…
— Не в этом дело, — перебил Ван Дале, которого Схюлтс предупредил о настоятельной необходимости время от времени одергивать Эскенса. — Я совсем не собираюсь играть тут первую скрипку из-за того, что даю машину; но у меня, возможно, больше опыта, чем у вас. Правда, мне не случалось участвовать в подобном нападении, но я знаю, что в таких случаях принято выслеживать или заманивать жертву. Если бы нам удалось как-нибудь вечером заманить Пурстампера в лес…
— А то мы сами не думали об этом! — огрызнулся Эскенс. — Попробуй затащи его в лес…
— Да, менеер, — вмешался Баллегоойен, — мне это было известно, когда вы еще…
Он хотел сказать «когда вы еще пешком под стол ходили», но вовремя опомнился: ведь тогда в стране не было немцев.
— Мой сын, расстрелянный весной сорок второго, организовал и провел девятнадцать нападений и обо всех рассказывал мне. Вы, разумеется, правы: в большинстве случаев поступают именно так. Но не с тем, кто чувствует что-то неладное, боится выходить из дому и, конечно, не даст себя никуда заманить. А Пурстампер чувствует что-то неладное, и нам это известно. В понедельник один из наших ходил в его лавку, ему срочно понадобилась фотобумага для важного дела. Пурстампер, зная, кто он такой, завел речь о том, что, мол, то, что произошло в Хундерике, просто ужасно и что он сам, хоть он и энседовец, никогда бы не мог участвовать в таком деле.
Читать дальше