И затем перед ним открылась новая перспектива: ведь он может этого человека пусть не схватить за воротник, но все-таки выследить, а там будь что будет. Ничто не мешало ему покинуть дом: стоило только пройти черепичную крышу, и он в свободном пространстве; а если из пиетета перед прежним Альбертусом Коканжем и его привычками он захотел бы непременно попасть на улицу через дверь, то к его услугам была, в конце концов, дверь студентов, а не только дверь мастерской, которая до сих пор внушала ему страх. В расположении дома, принадлежавшего Коканжу, было нелегко разобраться, потому что он состоял, собственно, из двух домов. Это была странная комнатных размеров вселенная, которую Альбертус Коканж при желании пересекал во всех направлениях; коридоры здесь были той же ширины, что комнаты, и он проходил туда тем же способом: через левый верхний угол или просунув голову через плинтус. Оба дома стояли вплотную друг к другу, посетители могли тотчас же понять это по двойному шраму в виде ступенек, соединяющих два чудовищно длинных коридора; на втором этаже первого дома жили студенты; посредством лестницы эта часть сообщалась с боковым выходом. Посредине дома проходила еще одна лестница, ведущая из общей комнаты в заднюю часть второго этажа и через боковую дверь к студентам, эта лестница предназначалась главным образом для прислуги; дочери, а иногда и жена сбегали по ней или тяжело поднимались с дымящейся едой на подносе; вечером по этой лестнице они пробирались украдкой в свои спальни; не то чтобы они боялись потревожить студентов, которые как раз в это время начинали ходить на головах, просто иначе трудно было проскользнуть незаметно и избежать новых требований чая или грога. Слепого, почти впавшего в детство отца обычно укладывали спать в восемь часов.
Странно, что Альбертуса Коканжа, замышлявшего покинуть дом, все более и более захватывала самодовлеющая сложность этого дома. И не только это. Оказалось, что он очень привязан к дому. И хотя он мог, конечно же, в любое время вернуться домой, было сомнительно, нашел ли бы он силы для возвращения после всех испытаний, которые ожидали его вне дома. Новые помыслы увлекали теперь Коканжа: отыскать не человека, а новые пути, приведут они к нему или нет, пути к свободе, неведомые пути… Собственно говоря, тот человек был не более чем предлог. Коканжа манил внешний мир, манили невероятные приключения, которые он мог бы пережить в качестве человека-невидимки, невидимого часовщика. Да и при чем тут часовщик? Он был когда-то часовщиком, теперь он мог быть всеми и каждым, каждым и никем. Он мог наблюдать за людьми с расстояния, сколь угодно близкого. Сначала бы он взялся за часовщиков, своих прежних конкурентов, потом за остальных, тех, которые раньше сами наблюдали за ним; все, что они говорят, и делают, и пишут, как они плетут интриги — государственные деятели, политика! — как они любят и ненавидят и так далее — короче, дыхание захватывало в груди. А потом — и тут он впервые вспомнил, что сказал ему посетитель о выборе, который-тогда предстояло сделать, — он мог бы, наверное, записать когда-нибудь все, что он узнал, увидел, подслушал…
Воодушевленный этой мыслью, он поспешил к стене комнаты для прислуги, где он находился, и стал водить по ней указательным пальцем правой руки, подчиняясь порыву, который сразу же избавил его от потягивания и ломоты в невидимых мускулах, этого влечения к ювелирной работе, самого злейшего мучения Коканжа со времени его превращения. И попытка увенчалась успехом — он писал. Буквы, словно написанные карандашом, не очень черные, несколько широковатые и хорошо очерченные, возникали перед его глазами и — как подсказывало ему осязание — из его пальцев. Он писал с наслаждением, не слишком много на первый раз, с тщеславным самодовольством выписывая каллиграфические буквы. Он писал; «Альбертус Коканж, часовых дел мастер, Альбертус Коканж, бывший часовщик, в мастерской с ним случилось, в мастерской его уничтожили, в мастерской Альбертуса Коканжа…» — и еще несколько ничего не значащих слов. Затем он глубоко вздохнул и попытался стереть пальцами буквы, но это не удалось: однажды написанные, они ускользнули из-под его власти. Этого он не ожидал. Стук дождя — опять дождь — отвлек его внимание. Он поежился, хотя холода не чувствовал. Он поежился при мысли о мире вне стен этого дома, о вещах, населявших огромное пространство, над которым у него осталось так мало власти. Более чем что-либо другое это упражнение в письме привязало его на первые недели к дому.
Читать дальше
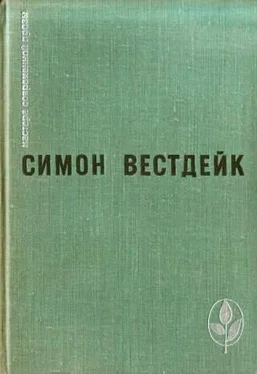
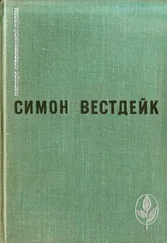

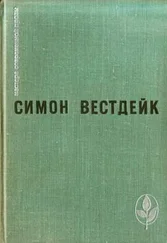

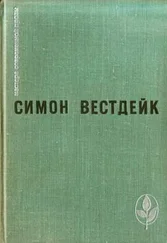
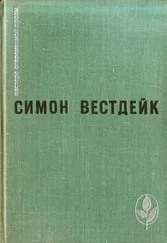
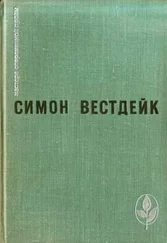
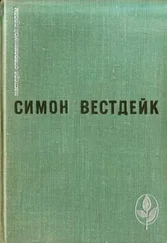
![Кейт Мортон - Дочь часовых дел мастера [litres]](/books/406821/kejt-morton-doch-chasovyh-del-mastera-litres-thumb.webp)


