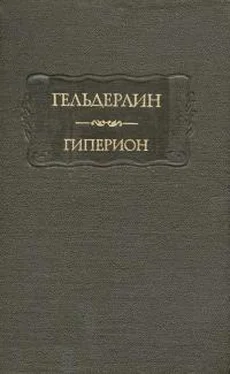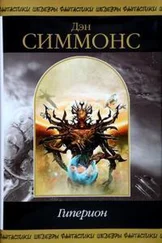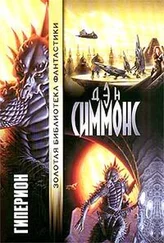Он положил немало терпенья и искусства на обработку своего материала, на так называемых культурных людей; но материал этот был и остался только камнем и деревом, хотя бы даже и принимал иногда благородный с виду облик человека; но не это нужно было моему Адамасу, ему нужны были люди, и он пришел к выводу, что у него не хватает мастерства для их создания. Те, кого он искал, люди, для создания которых ему не хватало мастерства, некогда существовали — это ему было ясно. И он знал, где они существовали. Его потянуло туда, он хотел разыскать их гений среди праха, коротать с ним свои одинокие дни. Он приехал в Грецию. Таким он был, когда я впервые его увидел.
Я и сейчас еще мысленно вижу, как он подходит, разглядывая меня с улыбкой, я и сейчас еще слышу его приветствие и расспросы.
Он стоял передо мной, и от него веяло покоем, как от зеленеющей купины, которая успокаивает мятущийся дух, возвращает сердцу наивную невзыскательность.
А я, разве я не был эхом низошедшего на него тихого вдохновения? Разве не повторялись во мне мелодии его души? То, что я видел, было божественно, и я сам становился тем, что я видел.
Как немощно, однако, самое искреннее усердие человека по сравнению с безраздельным могуществом вдохновенья! Вдохновение не скользит по поверхности, не воздействует только на одну или другую сторону нашей души; для него не требуется ни времени, ни особых средств; его не вызовешь ни приказом, ни понуждением, ни уговорами; оно охватывает нас мгновенно и всеобъемлюще — от глубочайших тайников до высочайших высот нашей души, — и, прежде чем мы его осознали, прежде чем успели спросить себя, что с нами, оно уже полностью преображает нас своей красотой и блаженством.
Счастлив тот, кому в ранней юности довелось встретить благородный дух человеческий!
О, золотые, незабвенные дни, наполненные радостями любви и увлекательной работой!
Мой Адамас вводил меня то в мир героев Плутарха, то в волшебное царство греческих богов; с помощью числа и меры он внес покой и порядок в мои юношеские стремления, он взбирался со мною на горы — то днем, чтобы любоваться полевыми и лесными цветами или дикими мхами утесов, то ночью, чтобы мы видели над собой святые созвездия и учились понимать их смысл и порядок.
Какое редкостное наслаждение испытываем мы, когда наша душа черпает таким образом силы, познает себя, обретает свою целостность и наш разум постепенно предстает во всеоружии.
Но трижды проникновенней постигал я и его и себя, когда мы, как тени минувшего [10], проникнутые то гордостью и радостью, то гневом и печалью, взбирались на Афон [11], затем плыли по морю в Геллеспонт, а оттуда — вниз, к берегам Родоса и к горным пропастям Тенарума, мимо тихих островов; когда же стремление вдаль увлекало нас в мрачные глубины древнего Пелопоннеса, к пустынным берегам Эврота, к обезлюдевшим, увы, долам Элиды, к немейским и олимпийским долинам, когда мы, прислонившись к колонне храма забытого Юпитера [12], среди олеандров и вечнозеленой листвы глядели на заброшенное русло реки, и весенняя жизнь и вечно юное солнце напоминали нам, что некогда и здесь жил человек, а теперь его нет, что прекрасная природа человеческая ныне почти не оставила следа, разве что в виде обломка храма или же сохранилась в памяти, как образ усопшего, — тогда я сидел возле Адамаса, предаваясь грустным забавам: обрывал мох с пьедестала полубога, раскапывал в куче щебня мраморное плечо героя или срезал терновник и вереск с наполовину ушедшего в землю архитрава. Тем временем Адамас рисовал ландшафт, который, ласково утешая, открывался за руинами: холм, засеянный пшеницей, оливы, стадо коз, расположившееся на уступах горы, вязовый лес, сбегавший с крутизны в долину; а у наших ног резвилась ящерица, и в полдневной тишине жужжали мухи... Милый Беллармин! Как хотелось бы мне поведать тебе обо всем так же досконально, как Нестор [13]. Я бреду по былому, словно собиратель колосьев по жнивью, где хозяин уже снял урожай, — ведь тут подбирают каждую соломинку. Хотелось бы мне рассказать и о том, как я стоял бок о бок с Адамасом на вершинах Делоса, и о том, какая это была заря, что занималась передо мной, когда я всходил с учителем по древним мраморным ступеням на гранитную стену Кинфа [14]. Некогда здесь жил бог солнца и устраивались великолепные празднества, на которых он представал окруженный, как золотым облаком, блеском всей Греции. Здесь греческие юноши погружались в волны радости и вдохновения, точно Ахилл в воды Стикса, и, подобно этому полубогу, выходили неодолимыми. В рощах, в храмах пробуждались и звенели слиянно их души, и каждый свято берег эти чарующие аккорды.
Читать дальше