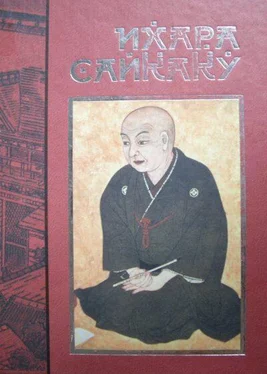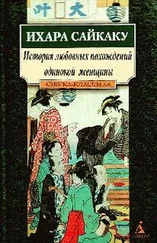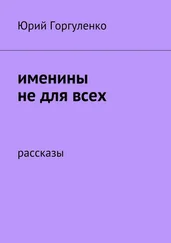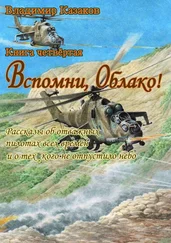В книгах Сайкаку пафос и ирония не существуют по отдельности, а соседствуют друг с другом, и это «больше соответствует истинному лицу жизни, в которой тоже перемешаны ужасы и очарования». [15] Пастернак Б. Л., с. 321
Жизнь, всецело подчиненная сверхличным ценностям, кажется писателю придуманной, ненастоящей. Его занимают не столько человеческие добродетели — о них и так было слишком хорошо известно из литературы прошлого, — сколько слабости, пороки и несовершенства, ведь именно в их зеркале отражается живая, всамделишная жизнь.
Если Сайкаку требуется нарисовать портрет красавицы, он чаще всего ограничивается беглым традиционным сравнением с «цветущей сакурой» или «стройным кленовым деревцем в осеннем багрянце». Другое дело, когда портретируемая «настолько дурна собой, что не отважится сесть возле зажженной свечи», — тут автор не жалеет красок, смакуя каждую подробность:
«Личико у нее хоть и скуластое, но приятной округлости. Лоб выпуклый, будто нарочно создан для покрывала кацуги. Ноздри, может быть, и великоваты, зато дышит она легко и свободно. Волосы, нет спору, редкие, но это имеет свое преимущество: не так жарко летом. Талия у нее, конечно, чересчур полная, но и тут нет ничего страшного — поверх платья она всегда будет носить парадную накидку свободного покроя, поглядишь — и на душе приятно. А то, что пальцы у нее толстые, тоже не беда, крепче будет держаться за шею повитухи, когда приспеет время рожать».
(«Разумные советы о том, как выгоднее вести хозяйство»)
Художественный мир Сайкаку живет по законам пародийного снижения. Это своего рода антимир, соприкасаясь с которым вся система принятых в обществе и освященных литературой нравственных правил неизбежно опрокидывается вверх дном, выворачивается наизнанку.
Сборник «Двадцать непочтительных детей страны нашей» служит пародийным отголоском китайской дидактической книги XIII века «Двадцать четыре примера сыновней почтительности» .
Притчи о благочестивых сыновьях, верных конфуцианскому долгу почитания родителей, были широко известны во времена Сайкаку не только в переводе, но и в многочисленных переложениях. Их отличие от оригинала состояло лишь в том, что действие переносилось в Японию, а герои наделялись японскими именами и «биографиями».
Совершенно иначе поступает в своей книге Сайкаку.
«В наши дни молодые ростки бамбука ищут не под снегом, как Мэн Цзун, а в зеленной лавке; карпов, что плещутся в рыбном садке, хватит любому Ван Сяну», [16] Тэйхон Сайкаку дзэнсю, т. 3, с. 135
— пишет автор в предисловии к сборнику, давая читателю понять, что истории о самоотверженности Мэн Цзуна, отправившегося зимой в лес искать съедобные побеги бамбука для матери, или Ван Сяна, который, чтобы накормить мачеху карпом, лег на лед, пытаясь растопить его теплом своего тела, — изрядно устарели.
Сайкаку не просто подправляет подлинник, но меняет в нем все знаки на противоположные: герой превращается в антигероя, добродетель — в порок, дидактика — в иронию, а пафос — в гротеск. Пародийное смещение акцентов напоминает клоунаду, игру, но за этой игрой стоит отнюдь не шуточное стремление осмыслить реальную, а не выдуманную жизнь, которая слишком далека от совершенства, чтобы соответствовать каким-либо образцам или «примерам».
Реальностью для Сайкаку была не только находившаяся у него перед глазами действительность, но и весь мир известной ему литературы далекого и недавнего прошлого, в которой он черпал материал для художественного осмысления и переосмысления. Чужое слово подстегивало его творческую фантазию, побуждало откликаться на него.
У Сайкаку немало произведений, открыто ориентированных на тот или иной литературный прототип. К их числу, помимо «Двадцати непочтительных детей» , принадлежит книга «Сопоставление дел под сенью сакуры» , которая, как явствует из названия, представляет собой японскую версию «детективных», как мы сказали бы сейчас, рассказов Гуй Ванжуна из сборника «Сопоставление дел под сенью дикой груши». К этому же кругу произведений относятся и «Новые записки о том, что смеха достойно» , правда, за вычетом названия этот сборник имеет мало общего с сочинением Дзёрайси «Записки о том, что смеха достойно» (1642) и уж во всяком случае не повторяет его уныло-проповеднический тон.
Порой обращение писателя к существующему в традиции материалу не носит столь явного и демонстративного характера и проявляет себя в сюжетных перекличках или общем замысле. Таков сборник «Рассказы из всех провинций» , в котором звучит эхо книги XIII в. «Дополненное собрание рассказов из Удзи». Оба произведения повествуют о чудесах, но для средневекового автора чудеса абсолютно реальны, Сайкаку же относится к ним скорее как к небывальщине, и сквозь фантастику его рассказов всегда проглядывают очертания реального и узнаваемого мира.
Читать дальше