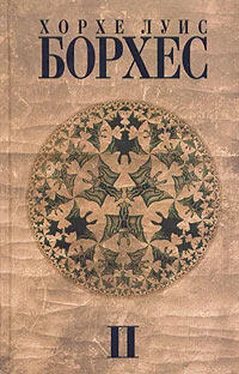Кем стал, во что превратился Педро Сальвадорес? Что удерживало его взаперти — страх, любовь, незримое присутствие родного Буэнос-Айреса или, наконец, просто привычка? Вероятно, жена, тяготясь одиночеством, передавала ему смутные известия о заговорах и победах. Или он был трусом и она потому с такой преданностью укрывала его, что знала об этом? Представляю, как он сидел в подвале, может быть, даже без свечи, без книг. Наверное, темнота клонила его ко сну. Может быть, сначала ему еще снился тот жуткий вечер, когда клинки искали его горла, снились пустынные улицы, равнина. Через много лет он уже не смог бы убежать и, верно, видел во сне только подвал. Сначала он был беглецом, преследуемым, а потом — кто знает? — стал притихшим зверем в норе или каким-то таинственным божеством.
Так продолжалось до летнего дня 1852 года, когда Росас бежал из страны. Лишь после этого укрывавшийся вышел на свет; мой дед беседовал с ним. Рыхлый и грузный, он был воскового цвета и говорил вполголоса. Ему так и не вернули конфискованные земли; видимо, он умер в полной нищете. Как во всем, в судьбе Педро Сальвадореса мне чудится символ, который вот-вот разгадаешь.
Он, бывший заключенным и изгоем,
он, обреченный на удел змеи —
хранительницы мерзостного клада,
он, Шейлоком оставшийся для всех,
он, преклоняющийся до земли,
чтоб вспоминать о прежних кущах Рая,
слепой старик, назначенный свалить
колонны храма,
лицо, приговоренное к личине,
он, все же ставший, всем наперекор,
Спинозою, Бал-Шемом, каббалистом,
Народом Книги,
устами, славящими из глубин
божественную справедливость неба,
дантист и адвокат,
беседовавший с Богом на вершине,
он, обреченный на удел отбросов
и мерзостей, судьбу еврея,
уничтожаемый огнем, камнями
и газом смертных камер,
отвоевавший трудное бессмертье
и сызнова бросающийся в бой
на беспощадный свет своей победы, —
прекрасный, словно лев в сиянье дня!
Вот они, рядом: сады, храмы и отражения храмов,
прямодушная музыка, прямодушные речи,
шестьдесят четыре гексаграммы,
обряды, единственная мудрость,
дарованная Небом человеку,
честь правителя, чья просветленность
воплощается в зеркале мира,
и поля приносят плоды,
а потоки чтят берега,
раненый единорог, возвращенный смертью к началу,
сокровенные вечные устои,
равновесие мира —
все это или память об этом — в книгах,
которые я стерегу, замурованный в башне.
Татары явились с севера
на длинногривых лошадках,
разгромили полки,
посланные Сыном Неба в наказание их бесчинства,
возвели пирамиды огня, раскроили глотки,
перерезали праведных и недостойных,
перерезали рабов на цепи, охранявших ворота,
осквернили и бросили женщин
и направились к югу,
невинны как звери
и беспощадны как сабли.
На неверной заре
отец моего отца
сумел укрыть эти книги.
Вот они, в башне, где я похоронен,
вспоминают иное время,
древние и чужие.
Свет ко мне не доходит. Книжные полки
высоки, и моим годам не сравниться с ними.
Бесконечные пыль и сон обступают башню.
Так зачем лукавить с собою?
Я неграмотен, это правда,
но утешаюсь мыслью,
что воображенье и память неразличимы,
если ты пережил себя,
видя все, что было столицей
и снова стало пустыней.
Так почему не представить,
что однажды и я чудом проникну в мудрость
и умелой рукой выведу вещие знаки?
Мое имя — Цзян. Я — стерегущий книги,
быть может, последние в мире,
ведь нам ничего не известно о Поднебесной
и Сыне Неба.
Вот они, рядом, на высоких полках,
недоступные и близкие книги,
сокровенные и ясные, как звезды.
Вот они, рядом, сады и храмы.
Поля, где предки правили когда-то,
Дав этим землям родовое имя,
Поля, так и не ставшие моими,
Хоть в мыслях… Я клонюсь к поре заката,
Но не был на валящем с ног просторе
Отчизны и суглинка, по которым
Скакал мой дед, окидывая взором
С седла бескрайние пути и зори.
Но я их видел в пустошах Айовы,
В кварталах Юга, в землях Иудеи
И в тростниках далекой Галилеи,
Хранящих след босой ступни Христовой, —
Они везде. Они во мне — в забвенье,
В желанье каждом и в любом мгновенье.
Две вариации на тему «Ritter, Tod und Teufel» [1] Рыцарь, Смерть и Дьявол (нем.).
I
Под призрачным забралом — непреклонный
Лик, словно меч, неотвратимо ждущий
В глубоких ножнах. Голой зимней пущей
Вершит свой путь, не дрогнув, этот конный.
Читать дальше