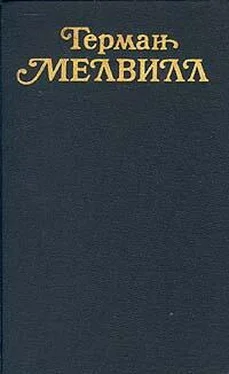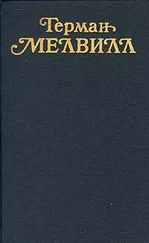Итак, творение мое предано анафеме, и не мне приобщиться к бессмертию. Отныне и на веки вечные, я — никто. Нестерпимая участь!
Схватив шляпу, я швырнул статью на пол и бросился из дома на Бродвей, по которому толпы восторженных зрителей спешили в цирк, недавно открытый неподалеку — на одной из боковых улиц — и прогремевший благодаря первоклассному клоуну.
Навстречу мне с радостным возгласом устремился мой давний приятель Стэндард:
— Хелмстоун, это ты? Как я рад! Да что с тобой? Уж не убил ли кого? Убегаешь от правосудия? Ты похож на помешанного.
— А, ты уже видел? — воскликнул я, имея в виду, разумеется, рецензию.
— Ну как же, как же — был на утреннем представлении. Великий клоун, поверь мне. А вот и Гобой! Гобой — Хелмстоун.
У меня не было ни времени, ни охоты сердиться на его досадное заблуждение, потому что при первом же взгляде на нового знакомого, столь бесцеремонно мне представленного, я немедленно успокоился. Это был упитанный коротышка, по-мальчишески живой и подвижный. На лице его играл свежий деревенский румянец, серые глаза смотрели весело и открыто. Только по волосам было видно, что ему за сорок.
— Поторапливайтесь, Стэндард! — на ходу закричал он моему другу. — Вы ведь в цирк? Говорят, превосходнейший клоун. Идемте же! Мистер Хелмстоун, давайте и вы с нами: пойдем вместе, а потом поужинаем у Тейлора — закажем тушеное мясо и пунш.
Непритворная приветливость моего нового, столь необычного знакомого, его румяное, сияющее довольством и добротой лицо подействовали на меня завораживающе. Было бы просто бесчеловечно не откликнуться на это бесхитростное, чистосердечное приглашение.
Во время представления Гобой занимал меня больше, чем прославленный клоун. Я не сводил с него глаз. Его неподдельный восторг волновал меня до глубины души, ибо давал почувствовать реальность того, что именуют счастьем. Шутки клоуна он, казалось, смаковал, будто спелые сливы. Притопыванием и хлопками он то и дело выражал ему свою признательность и пылкое одобрение. При каждом чуть менее заурядном трюке он оборачивался к нам — убедиться, что мы разделяем его величайшее удовольствие. В сорокалетнем мужчине мне виделся мальчишка лет двенадцати, однако уважение мое к нему от этого нимало не уменьшалось. Все в нем было настолько естественно и безыскусно, жесты и восклицания исполнены такой свободы и непринужденности, что он — само воплощение молодости — невольно напоминал греческого бога [1] …напоминал греческого бога… — Имеется в виду юный Эндимион, за красоту взятый Зевсом на небо.
, наделенного вечной юностью.
Как ни был я поглощен созерцанием Гобоя, как ни восхищался им, все же то отчаяние, в каком я выбежал из дома, вновь и вновь охватывало меня. Но я старался отогнать его и мельком оглядывал сотрясаемый рукоплесканиями обширный амфитеатр, полный увлеченных зрелищем человеческих лиц. Слышите? Топот, хлопки, оглушительные выкрики: огромная аудитория словно обезумела от восторга. И что же тому причиной? Всего лишь клоун, растянувший рот до ушей в особенно удачной ухмылке.
Здесь я мысленно продекламировал отрывок из своей трагедии в стихах — возвышенный монолог, в котором Клеотем Аргивский защищает справедливость начатой им войны. Вот если бы сейчас, думал я, ринуться на арену и прочесть эти строки во всеуслышание — или даже разыграть перед зрителями всю трагедию целиком, будут ли аплодировать поэту так, как аплодируют клоуну? Куда там! Меня освищут, сочтут недоумком или рехнувшимся… Что же из этого следует? Ты одержим или они бесчувственны? И то и другое, наверное, но одержимость твоя несомненна. Так к чему сетовать? Ты жаждешь восхищения от поклонников паяца? Вспомни афинянина [2] Вспомни афинянина… — Имеется в виду приводимый Плутархом в его «Сравнительных жизнеописаниях» эпизод из жизни афинского полководца и государственного деятеля Фокиона (ок. 402–318 до н. э.) («Фокион», VIII).
, произносившего речь перед народным собранием: когда слушатели устроили ему шумную овацию, он шепотом спросил друга, что за глупость случилось ему высказать.
Я быстро окинул глазами цирк — и взор мой снова упал на румяное, сияющее лицо Гобоя. Его открытая, простодушная веселость презирала мое презрение. Моя непомерная гордыня была посрамлена. Тем не менее сам Гобой и не подозревал, что за магический упрек являло такой душе, как моя, его озаренное улыбкой лицо. В тот самый миг, когда я почувствовал боль укора, глаза Гобоя заблестели, он всплеснул руками, и голос его присоединился к взрыву всеобщего ликования при новой шутке неистощимого на выдумки клоуна.
Читать дальше