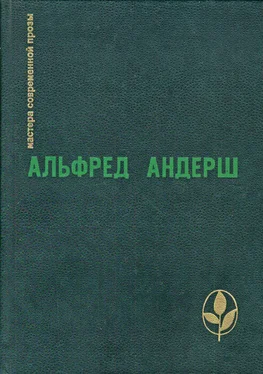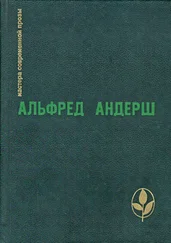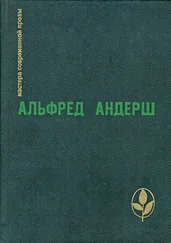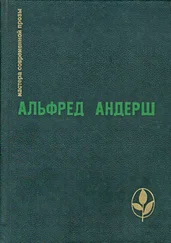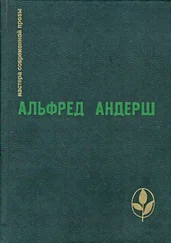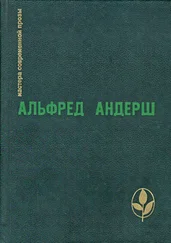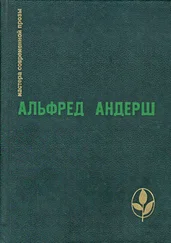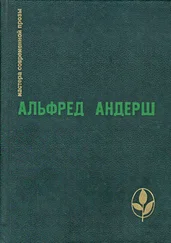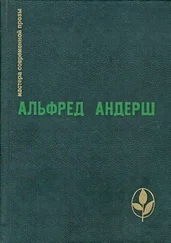За свои одиннадцать лет она успела закатить, как взрослая, несколько полноценных истерик, чтобы настоять на своем, но теперь она снова стала ребенком. Одна из косичек торчала в сторону. Придется завтра перед отъездом попросить горничную переплести Монике косы. Я относился к ее истерикам с сочувствием. Может быть, даже с чрезмерным. По пути домой, распрощавшись с высокогорным воздухом, который лишал ее душевного равновесия, она прочла две книги и сгрызла много шоколаду, а я тем временем размышлял, почему снова проявил такое сочувствие и пожертвовал ей целых два дня, хотя с деловой точки зрения был сейчас занят необычайно. Когда наш поезд стоял во Франкфурте, я решил в следующий раз непременно побывать у Клауса.
После этого первого приступа нервической сентиментальности, какой я прежде за собой не замечал, со мной в мае, в Голландии, случилось престранное происшествие.
В своей отрасли — высококачественные изделия из бумаги — я являюсь совладельцем фабрики в Альфене, а в связи с некоторыми процессами в странах Общего рынка возникла необходимость собраться, чтобы договориться о подлинной интеграции. Когда я занимаюсь делами, мне ничуть не мешает то обстоятельство, что моя нервная система стала гораздо уязвимее, чем прежде, скорей даже, наоборот. Директор де Фриз после конца заседания подвез меня к поезду в расположенный неподалеку Лейден. Обычно я езжу из Альфена до Кёльна на своей машине, но именно в тот период у меня ее не было, так как свой «мерседес» я уже отдал, а «лансию» еще не получил. Подобное желание, сменить одну марку машины на другую, я тоже задним числом отношу на счет тревожащих меня перемен в моей эмоциональной сфере. До их появления я ценил машины только за надежность и за высокие ходовые качества, но я хорошо помню, что с тех пор, как впервые увидел крупный, обтекаемый, словно птица, лимузин «лансия-фламиния», он сделался моей навязчивой идеей. Солидный, основательный работяга в моем гараже меня вдруг перестал устраивать, я помешался на машине, которую так и хотелось погладить всякий раз, как она попадалась мне на глаза.
Мы слишком рано приехали в Лейден — было всего три часа, а мой поезд уходил в четыре с минутами, и де Фриз надумал поводить меня по городу, который не очень велик и настолько голландский, что дальше некуда. Когда мы шли вдоль Рапенбургского вала, все и случилось. Рапенбургский вал — это грахт, другими словами, посередине улицы здесь проходит зеленый канал, вдоль канала растут липы, а по обеим его сторонам — мостовая, ширины которой хватает для однорядного движения. Кое-где канал пересечен мостиком, под ним толпятся черные баржи. И на той и на другой стороне Рапенбургского вала стоят большие, старые, изумительно ухоженные дома, поистине не дома, а дворцы времен золотого века Голландии.
И вот эти самые дома — что я, собственно, и имею в виду, когда говорю «все и случилось», — эти самые дома перешептывались. Я больше не слушал, о чем толкует де Фриз, я отключился, поднял воротник плаща и, сгорбившись, пробирался мимо шепчущихся домов. Как я ни напрягал слух, мне не удалось разобрать ни слова из их шепота, но в том, что они тихо разговаривают между собой, не было ни малейшего сомнения. Испуг пронзил меня; разумеется, я сразу же подумал о начале душевного заболевания, о первых признаках навязчивых представлений. Душевной болезнью так же можно заболеть, как, например, раком или лейкемией. Дойдя до конца Рапенбургского вала, де Фриз спросил, не захворал ли я, потому что внезапно так побледнел. Я ответил ему, что чувствую себя вполне здоровым, хотя по спине у меня бежал холодный пот.
Мне удалось распроститься с де Фризом лишь возле касс Лейденского вокзала. Затем я вышел на перрон, но не стал садиться в поезд и, как только де Фриз отъехал, снова повернул к выходу. Убедившись, что машина де Фриза исчезла с привокзальной площади, я потихоньку вернулся в старую часть Лейдена. Тут я вновь вышел на Рапенбургский вал и удостоверился, что был прав. Дома все еще шептались. Теперь я медленно и с полным самообладанием шагал вдоль канала. Несмотря на страх, я время от времени принуждал себя остановиться и окинуть дома взглядом. У них были зеленые, и черные, и темно-красные двери и начищенные до блеска латунные дверные молоточки, а их большие окна с белыми рамами были врезаны в стены из побуревшего обожженного кирпича. У них был какой-то чужой вид. Прошлой ночью, в альфенском отеле, мне снился сон, содержание которого выскользнуло у меня из головы, кроме того обстоятельства, что в нем я все время был голый и покрыт кожей темно-зеленого цвета. И что казался самому себе таким же чужим, как теперь эти дома. Кстати, дома уже не шептались, они вдруг запели. Они пели тихо, чуть хриплыми монотонными голосами. Их пение звучало согласно, слаженно и угрожающе. Небо над ними отливало тихой и бледной голубизной — типичное нидерландское небо в мае. Изредка мимо меня проезжала машина. Мне было страшно. Я, бесспорно, стал жертвой навязчивых представлений.
Читать дальше