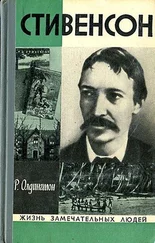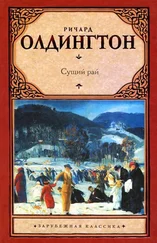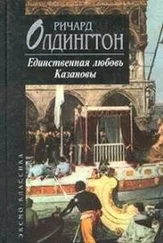Блентроп ожидал, что будет скучать на этом обеде, но неожиданно был «заинтригован», как выражаются наши стилисты. Компания за столом забавляла его и вызывала некоторый интерес к себе. Он ничем не выдавал своих чувств, но не мог не испытывать презрения солдата к жрецу Золотого Тельца и отвращения порядочного человека к ловко замаскировавшемуся хаму (вот как несправедливо судил он о столь достойной личности, как Гарольд!). Блентроп не был кадровым военным, он только в тысяча девятьсот четырнадцатом году добровольно вступил в армию. Он знал жизнь — правда, до сих пор мирок Гарольдов был ему незнаком. Эстер ему понравилась, он находил, что она красива, очень красива и при этом удивительно мила. Достаточно было нескольких минут, чтобы картина стала ему ясна: против него — этот болван, самодовольный хлыщ, справа — его любовница, слева — жена, явно им пресытившаяся, но, увы, не заброшенная. Блентроп заметил, какое впечатление он произвел на Эстер, но продолжал искусно льстить только Гарольду и Нэнси, и все трое были уверены, что на Эстер он не обратил никакого внимания. С нею он был вежлив — и только. Однако, пригласив ее танцевать, он сказал, когда они отошли от стола:
— Я уверен, что вы любите Шопена.
— А почему вы так в этом уверены?
— Ведь любите, правда? Помните этот прелестный ноктюрн…
И среди грохота джаза он стал напевать сквозь зубы мелодию ноктюрна.
— Да, он очень хорош, — сказала Эстер. — И я его люблю. Но как вы…
— У вас гибкие пальцы, вот я и решил, что вы, наверное, играете на рояле. А к тому же в глазах у вас тоска по недостижимой красоте. Так что вы не можете не любить Шопена.
— Вы настоящий Шерлок Холмс!
— Знаете, когда человек меня заинтересует — а это бывает очень редко, — я невольно стараюсь угадать, что он собой представляет, — не в обыденной жизни, а в душе. И про вас я думаю, что в вас скрыты большие, еще не развитые способности, тонкая чувствительность, которой вы сами очень боитесь, и привязчивость, которой злоупотребляли, вместо того чтобы ею дорожить.
Эстер стала сдержаннее, натянуто улыбнулась.
— Боюсь, что ваши детективные способности на этот раз вас немного подвели.
— Так ли это? Не думаю.
Гарольд и Нэнси, увлеченные разговором, не переставали, однако, наблюдать за ними. Они теперь топтались на паркете очень близко, и Блентроп замолчал. Он и Эстер молчали до тех пор, пока Религия в объятиях Любви не унеслась на другой конец зала. Тогда только Эстер сказала:
— Вот никогда бы не подумала, что вы любите Шопена!
— Разве? А я до войны часто играл его. И представьте — зачитывался стихами. Мало того, я даже пробовал сочинять их, что еще неприличнее.
— Вот как? А стихи Доусона вам нравятся?
Проснувшись, увидел я серый рассвет,
И тяжко томила былая любовь.
— Да, в то время я сильно увлекался этим поэтом. Но, конечно, еще больше Суинберном. А теперь я читаю Сэссуна и Брука… [8] …А теперь я читаю Сэссуна и Брука… — Зигфрид Сэссун (1886–1967) и Руперт Брук (1887–1915) — видные английские поэты — «георгианцы», сражавшиеся на полях первой мировой войны.
и еще Лоуренса.
— Лоуренса? — нерешительно переспросила Эстер. — А я его не читала. Он, кажется, яростный женоненавистник?
— Я вам завтра же пришлю несколько его книг.
Танец кончился. Когда они шли назад к столу, Эстер торопливо шепнула своему кавалеру:
— При Гарольде и Нэнси не говорите о музыке и стихах. Они их терпеть не могут.
— Ну, неужели вы думаете, что я этого не понимаю?
Их уже связывало очарование общей тайны, невинного заговора.
Возвращаясь с Эстер домой, Гарольд всю дорогу в автомобиле без умолку говорил, опьяненный успехом, пока еще только воображаемым. Автомобиль был освещен внутри так ярко, словно прожектором. Это тоже было одной из бесчисленных мелких утех Гарольда: надо же, чтобы мир видел, как вознаграждается доблесть! Сей жалкий Гелиогабал [9] Гелиогабал (204–222) — римский император, любивший пышность.
по сравнению с римским императором нищий, как монах-августинец, не мог повелеть, чтобы путь, по которому следовала его колесница, усыпали золотом, но он мог, по крайней мере, показать свой цилиндр и бриллианты жены всем встречным, провожавшим их равнодушными или враждебными взглядами. Эстер хотелось потушить свет — ах, если бы Гарольд замолчал и дал ей спокойно посидеть в темноте с закрытыми глазами. «Странно, — подумала она, — почему-то за последние часы он стал мне особенно противен».
Читать дальше