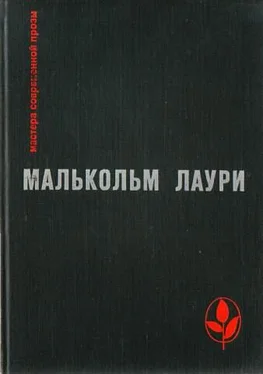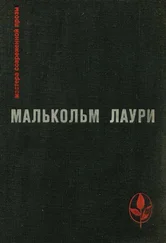Нищий выпрямился, и лицо его, чудилось консулу, медленно обретало черты сеньоры Грегорио, а потом преобравилось в лицо его матери, и на этом лице было выражение неизъяснимой жалости и мольбы.
Он снова зажмурился и постоял с минуту, сжимая стаканчик в руке, раздумывая с холодным, безучастным спокойствием, но не без иронии, о том, какая страшная ночь предстоит ему неизбежно, выпьет ли он еще сколько влезет или не выпьет ли капли, все равно стены станут сотрясаться от адской музыки, и будут обрывки кошмарных сновидений, и голоса за окном, хотя в действительности это лишь вой приблудных псов, и несметные призрачные толпы, повторяющие его имя, и зловещие крики, звяканье, грохот, треск, и борения с разъяренными демонами, и лавина, заваливающая двери, и кинжалы, пронзающие его постель, а снаружи неумолчные вопли, стоны, дикая какофония, клавикорды тьмы; консул вернулся в бар.
Дьосдадо, он же Слон, вышел из задней комнаты. Консул увидел, как он снял черный пиджак, повесил его в шкафчик и нащупал в нагрудном кармане безукоризненно белой рубашки курительную трубку. Он вынул трубку и стал набивать ее крепким, душистым табаком. Консул вспомнил про свою трубку: да, это она, ясное дело.
— Si, si, мистур, — ответил Дьосдадо на вопрос консула и наклонил голову. — Сlаrо [203] Понятно (исп.)
. Нет... Мой трубка не английский. Монтерейский. Вы тогда был раз на весь день... э... bоггаcho. Разве нет, сеньор?
— А как же, — подтвердил консул — Два раза на день.
— Вы был пьян три раза на день, — сказал Дьосдадо, и консул поморщился, уязвленный его взглядом, его оскорбительными словами и сознанием глубины собственного падения. — А теперь, значит, вы будет уезжать назад в Америку, — сказал он, шаря за стойкой.
— Я... нет... роr que? [204] Почему? (исп.)
Дьосдадо бросил на стойку толстую пачку конвертов, перетянутую резинкой.
— Es suyo? [205] Ваши? (исп.)
— спросил он напрямик.
Где ее письма, Джеффри Фермин, где письма, где письма, которые писала она, и сердце ее разрывалось? Вот они, ее письма, вот они, здесь, да, здесь: консул понял это, даже не взглянув на конверты. И когда он заговорил, то сам не узнал своего голоса.
— Si, senor, muchas gracias, — сказал он.
— De nada, senor [206] Да, сеньор, большое спасибо. Не за что, сеньор (ucn.)
. Дьосдадо отошел.
Капля в море... Целую минуту консул не мог пошевельнуться. Он не мог даже протянуть руку и взять стаканчик. А потом он стал рисовать пальцем в лужице мескаля на стойке маленькую карту. Дьосдадо снова подошел и глядел со вниманием.
— Espana, — сказал консул и почувствовал, что не может говорить по-испански. — Вы испанец, сеньор?
— Si, si, senor, si, — сказал Дьосдадо, глядя на него, но уже совсем иным тоном. — Espanol. Espana.
— Эти письма, что вы мне отдали, — понимаете? — написала моя жена, моя esposa. С1аrо? Мы с ней там познакомились. В Испании. Узнаете вы свою родину, узнаете Андалузию? Вот здесь Гвадалквивир. А вот Сьерра-Морена. Вот тут, пониже, Альмерия. Между ними, — он показал пальцем, — горы Сьерра-Невада. А тут Гранада. Вот. Здесь мы с ней познакомились.
Консул улыбнулся.— Гранада, — повторил бармен, выговаривая это слово совсем не так, как консул, жестче, суровее.
Он бросил на консула испытующий, пристальный подозрительный взгляд и опять отошел. Потом что-то сказал людям, сидевшим у другого конца стойки. Лица их разом повернулись к консулу.
Прихватив мескаль и письма Ивонны, консул ушел за стойку, в одну из клетушек, соединенных извилистыми коридорами. Прежде он не замечал, что перегородки здесь из матового стекла, как в банке. И он почти не удивился, когда увидел старуху из Тараско, ту самую, что сидела сегодня утром в «Белья виста». Перед ней, на круглом столике, стоял стаканчик с текилой и были разбросаны костяшки домино. Ее цыпленок склевывал крошки со столика. Может, это вовсе и не ее домино, подумал консул; или костяшки эти ей просто необходимы и она всегда носит их при себе? Ее клюка с когтем вместо рукояти повисла, как живая, на краю столика. Консул подошел к ней, выпил мескаль до половины, сиял очки, стянул резинку с конвертов.
«...Помнишь ли ты, какой завтра день?» — прочитал он. Нет, подумал он, не помню; слова тонули у него в мозгу, как камни в воде. Он явно утратил всякое ощущение реальности... Он отторгнут от самого себя, хотя отчетливо сознает это, вновь обретенные письма так потрясли его, что он очнулся от забытья и сразу же снова впал в забытье, но совсем иначе; он пьян, он трезв, он в тяжком похмелье — все разом; седьмой час вечера, он сидит в «Маяке» у стеклянной перегородки, в комнатке, освещенной электричеством, и рядом с ним старуха, но одновременно он перенесся в прошлое, и брезжит утро; он пьян, но не так, как сейчас, и не здесь, а в ином месте, далеко отсюда, и что-то иное происходит с ним: он вскочил на рассвете с постели, оглушенный алкоголем, и бормочет: «Тьфу ты черт, какая же я скотина!» — вскочил, потому что нужно проводить жену на первый автобус, но все напрасно, она уехала, и на столике, где сервирован завтрак, лежит записка: «Прости мою вчерашнюю истерику, ты обидел меня, но это, конечно, не оправдание, и не забудь выпить молока», а снизу приписано, вероятно, после минутных сомнений: «Милый, больше так продолжаться не может, это невыносимо, я уезжаю...» — и смысл записки не доходит до него, а вместо этого совсем некстати вспоминается, как минувшей ночью он долго толковал с барменом про какой-то пожар, — и зачем он сказал свой адрес, ведь теперь полиция найдет его без малейшего труда, и почему бармена звали Шерлок? Бессмертное имя! — и вот он налил себе портвейна, выпил воды, проглотил три таблетки аспирина, от которого его тошнит, и размышляет о том, что до открытия бара еще целых пять часов, а там он пойдет ко вчерашнему бармену с извинениями... Но куда он подевал сигарету? И почему бокал с портвейном оказался под ванной? И что это за взрыв он слышал только что в доме?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу