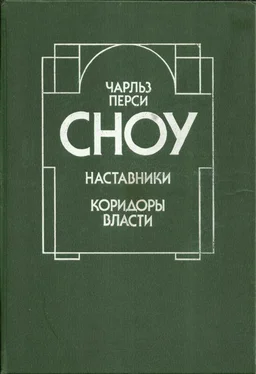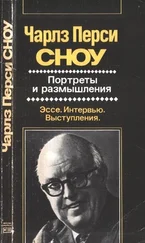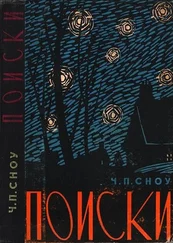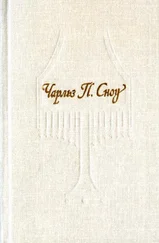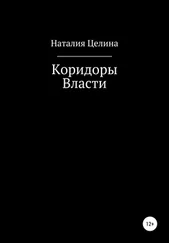Но если он и хотел затронуть более глубокие пласты, то быстро отказался от этой мысли. Он говорил, не выходя из рамок повестки дня. И все же не прошло и десяти минут, как я понял, что он и не думает идти на попятный, что минуты слабости, сомнений, уловок остались позади. Он говорил то, что часто скрывал, но во что верил всегда. Теперь, когда дошло до дела, он ясно и четко излагал мысли, под которыми, безусловно, подписались бы Гетлиф и его коллеги. Только он говорил все это куда сильней и убедительней, чем могли бы сказать они. Он говорил веско, как человек, который способен взять власть в свои руки. И только под конец, уже поздней ночью, он заговорил иначе — негромко, почти задушевно.
— Послушайте, — сказал он, — задачи, которые мы пытаемся решить, чрезвычайно сложны. Так сложны, что большинство наших соотечественников — людей, которые, в общем, не глупее нас с вами, — даже отдаленно их не понимают. Не понимают просто потому, что не осведомлены о них, потому что никто и никогда не ставил их перед необходимостью такие задачи решать. Не знаю, многие ли из нас, здесь присутствующих, в состоянии понять, во что превратилась наша планета с тех пор, как жизнь наша проходит под знаком Бомбы. Думаю, таких очень немного, а то и вовсе нет. Но я уверен, что подавляющее большинство людей, которые — я повторяю — ничуть не глупее нас с вами, не имеют об этом ни малейшего понятия. Мы пытаемся решать за них. Мы много, очень много берем на себя. Об этом нельзя забывать.
Я слушал с восхищением, с тревогой, с какой-то тревожной радостью. Сейчас, когда настала решающая минута, уж не жалел ли я, что он не пошел на компромисс? Ведь теперь коллеги могут со спокойной совестью от него избавиться: когда шла торговля вокруг законопроекта, никто не давал согласия на подобные речи. Оставалась лишь одна надежда — что он увлечет и убедит парламент.
— За последние два дня здесь не раз повторяли, что я склонен рисковать. Позвольте мне сказать вам вот что: любое решение — всегда риск. В наше время, принимая любое важное решение, мы серьезно рискуем. Но риск риску рознь. Жить бездумно, по старинке, как будто в нашем мире ничего не изменилось, тоже значит рисковать. Я убежден, я глубоко убежден, что если наша страна и все другие страны будут и дальше создавать эти бомбы и испытывать их, как будто это просто военные суда, то очень скоро случится самое худшее. Случится, возможно, не по чьей-то вине, а просто потому, что все мы люди, все мы способны ошибаться, терять власть над собой, стать жертвой несчастного стечения обстоятельств… И если это случится, наши потомки, если только у нас будут потомки, проклянут нас. И будут правы!
Наша страна больше не может быть сверхмощной державой. О чем я очень сожалею. Впрочем, в наши дни, когда на первый план выдвинулась наука, понятие «сверхмощная держава», вероятно, утратило смысл. Как бы то ни было, мы такой державой быть не можем. Но я уверен, мы можем помочь — добрым примером, здравым смыслом, дельными советами и разумными действиями мы можем помочь перетянуть чашу весов, когда они начнут колебаться, когда встанет выбор: светлое будущее или мрачное, а вернее, светлое будущее или никакого. Просто отойти в сторону мы не можем. Будущее колеблется на весах. Как ни мало мы можем на него повлиять, что-то сделать мы все-таки можем.
Вот почему я готов пойти на риск. В сущности, этот риск невелик и может привести к добру, тогда как другой риск огромен и ведет к самым пагубным последствиям. Еще не поздно выбирать. Вот и все!
Роджер сел, нахмуренный, глубоко засунув руки в карманы. Долгую минуту в зале стояла тишина. Потом за его спиной раздались аплодисменты. Дружные ли? Не растерянные ли? С задних скамей оппозиции донеслось несколько одобрительных выкриков. Ритуал вступил в свои права. Зазвонили звонки в кулуарах. Я увидел, как Сэммикинс, сидевший в компании приятелей, вскочил и, высоко вскинув голову, с вызывающим видом направился к выходу, чтобы подать свой голос против. На скамьях консерваторов человек шесть остались сидеть, скрестив руки на груди, демонстрируя твердое намерение воздержаться от голосования. Но это еще ничего нам не говорило. Менее откровенные могли покинуть зал, но тем не менее не голосовать.
Члены парламента возвращались в зал. Некоторые разговаривали между собой, но в общем было не слишком шумно. Возбужденные люди тесным кольцом обступили кресло председателя. Ему еще не успели передать результат подсчетов, а в зале уже водворилось молчание. Подавленное молчание. Председатель провозгласил:
Читать дальше