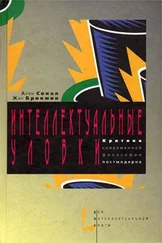Последние, наконец, произведения К. Буберы, два «письма в редакцию», написанные им за несколько дней до смерти, может быть, лучше всего свидетельствуют нам, какую великую личность, ушедшую от нас в самом разгаре своего таланта и изобразительной мощи, потеряли мы в Бубере! К сожалению, оба эти замечательные произведения утеряны для потомства и, по-видимому, навсегда…
В виде послесловия печатаем мы надгробную речь К. Бубере, сказанную Базилем, профессором тайных наук и высшей школы магии в марте 1913 года, на собрании В. А. К., посвященном памяти Буберы. Члены этого клуба весьма ревнивы к кастовым своим тайнам, поэтому было очень трудно добыть эту речь, и нам пришлось для этого даже решиться на насилие над автором речи, — но издательство вообще не жалело затрат, выпуская в свет эту книгу. Речь эта ясно и глубоко освещает жизнь и деятельность нашего почтенного мыслителя.
III
В заключение мы считаем долгом упомянуть, что если некоторым узким гуманистам К. Бубера и казался обыкновенным серым котом (впрочем, очень красивым, что признавали все!), то мы с своей стороны должны определенно и настойчиво указать, что необыкновенный Кот Бубера действительно явление выдающееся и заслуживающее напряженнейшего внимания не только за красоту своей шерсти, как, к сожалению, думают многие, но и за свой исключительный литературный талант.
Сергей Бобров
IX. 913. Москва.
IX. 916. Железноводск
Критика «житейской философии»,
писаннной великим котом Муром и изданной Теодором Гофманом [3] Печатается по подлинной беловой рукописи, сверенной с протоколом заседания и стенограммой. С.Б.
(Речь, произнесенная на Экстренном Заседании Великой Ассоциации Котов 27 октября 1911 года).
Милостивые и пушистые государи мои! дорогие друзья!
Я, господа, не привык ходить закоулками; я, господа, всегда хватаю моего противника прямо таки, черт возьми, за череп; я, господа, и сегодня начну мою речь, которая прогремит в веках, без всяческих вступлений, прямо я вам всем так и скажу, так и спрошу:
«— А что такое, Государи пестрые мои, кот?!»
Я слышу, как воцаряется на нашем приветливом чердаке зловещее молчание, — о, справедливые боги — какой странный и жуткий вопрос! Но что же мы ответим на него… — Прошу не шуметь! я же и буду отвечать — что должны мы… да что вы там махаете лапой, это же смешно! — я же… что? вы знаете? — а я лучше… да, господин председатель, убейте же вы этого нахала, — да ведь он… — или я сейчас же бросаюсь лапами вверх из слухового окна, вместе с моей рукописью, разломлюсь пополам о чей-нибудь медный лоб — и вы не узнаете, что такое кот! —
Итак, я продолжаю, — должны ли мы, говорю я, следуя негодным измышлениям людей, решить, что благороднейшее из животных замышлено природой, как некая самоочищающаяся мышеловка, глупейшее бильбоке для прыгания через палку, детская погремушка для таскания оной за хвост, табакерка с музыкой для бесплатного мурлыканья и какой-то игрушечный электрофор для пускания искр в воздух, на манер субъекта, изловленного без билета в третьем ряду партера! — Но ведь мы-то, «немые свидетели» их существований, хорошо знаем — что они такое, эти кичливые холуи! — так чего же стоят их эгоцентричные рассуждения, — бросаю их без сожаления! — нет, мы обратимся к иным незамутненным еще источникам. Слушайте! —
— «Кот Мур! к твой тихо окраем крыши крадущейся нам в сердце тени воз-зываю я!» —
Дыхание спирается в гордой моей груди, тонкий мой туманится взор! — О, войте, — о, взвизгните, коты! о, есть ли в мире подлунном хоть один коготь закривленный, не застывавший хоть на мгновение в философическом медленном раздумье на одной из непостижимых страниц «Житейской философии»! О, единственный из бегающих всежизненно на задних лапках перед судьбой достойный славной благодарности, а не оплевания, о, величайший и премудрый Теодор Гофман, оповестивший мир о великом несравненном коте Муре, — ты, чье третье имя желчно памятует нам о завоеванных небесах!

Но откинем же условности, будем же говорить в бешеном стиле. Правда, я готов признать, что стиль бешеной селедки мог бы стать единственным светочем для нашего времени, свихнувшегося в общем на двух-трех пустяшных мыслях. Эти мыслишки — дуты, раздуты — можно подумать, сделаны они из тончайшей резины! — и все еще раздуваются, и еще, и еще — пока наконец не наступит естественная реакция, и не лопнет все это тихо и молчаливо (даже не испустив никакого запаха!). Ты, величайший, ты, провидец, ты, отщепенец, ты, отшельник и острый указательный палец, Гофман, о скажи же нам, слышишь ли ты наш исступленный визг и царапанье когтями — слышишь ли ты нас, лезущих на стену и неистово вопящих в твое прославление!
Читать дальше