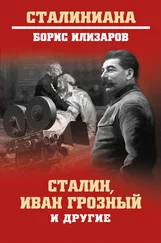— Встань, казак Гаморкин! Разные были времена, а казаки не погибали и не погибнут. Тяжело будет, так тяжело, что хоть руки на себя наложить, а ты помни, что ты казак. Песню возьми и запой, какую повеселей. Скажи какую нибудь прибаутку — казаков рассмеши. Дух у них подними. Мала твоя заслуга будет, незаметная будет, а велика. Другие в тебе черпать силу будут. Запомни, Гаморкин, что я тебе сказал!
Тут я, кум, и проснулся.
— Что, Евграфыч, страшно ведь, а?
Иван Ильич покосился на Ермака, прочитал вслух набитые на скалу слова:
„Ермаку — Донцы".
— Ишь, Донцы это ему поставили. Мы поставили, никто нибудь другой. Такой-то во сне приснится гигант — страшно-о!
Гаморкин еще раз с уважением посмотрел на темного Ермака и неожиданно столкнулся с какой-то дамой в каракулевом саке. Так как он на голову был выше ее, то перо ее модной шляпки, возмущенно мотнувшись, помазало Ильича по усам, а под самым носом голос женский, тонкий и чуть-чуть в нос, произнес:
— Господи, какая верзила! Лезет и не извиняется: шли бы по мостовой, если ходить по тратуару не умеете.
Дама пошла дальше, а мы с Иваном Ильи-чем сошли на мостовую, перешли к аллее и остановившись, долго, сконфуженные, смотрели ей вслед, пока она, обогнув памятник, не скрылась за углом. Гаморкин посмотрел на меня, в его глазах светилась какая-то затаенная мысль.
— А что, кум, если-б ее Ермак невзначай толкнул?
Я удивился вопросу.
— Думаю — улыбнувшись ответил я, — что и ему бы досталось.
— Ну и ну. Вот бабы пошли. Прости Господи. Порядочному казаку хоть не ходи по улицам. Как это она сказала?
„Коспади, какая верзила".
Иван Ильич недобро усмехнулся.
— Нет ли, кум, сходства с этим вот выражением: „На коре куси кокочут, под корой — дэждь лупя".
Вот тебе и — Казачья Столица.
Весь остальной путь до Троицкой Церкви мы прошли молча."
Есаульша нас тотчас же приняла, усадила в столовой за стол кофий пить, начала интересоваться. Рада была, как родным. Пытала Ильича о муже. То смеялась беспричинно, то вытерала украдкой слезу. А сын ея лез Гаморкину на колени, успев уже одеть каску и прицепить штык.
Наелись мы и напились.
— Жив он и здоров. Что ему сделается? И я при нем…
— Как же что? Ранят, заболеет. Мало ли что может случиться.
Есаульша боялась сказать — убьют.
— Ну, дык волков бояться — в лес не ходить! — философствовал Иван Ильич.
— На то она и война, Ляксандра Федоровна.
— Дядинька, — лез мальчёнок, — а у папы много таких больших казаков, как ты?
— Больших казаков? — уже утешал ребенка Иван Ильич, — казаков вообще у папы твоего много, а таких как я, если с пяток найдется — хорошо. А то, и того нет. Да и нет-жа! Один я. Один — как перст.
Гаморкин показал мальчику палец и засмеялся.
— Ну, а как — белье, одежда, цела ли? Что еще передавал на словах?
— Все цело. Все как есть на своем месте! Говорил есаул, чтобы сына берегли — казак будет.
— Казак! Буду казак — сверкнул глазенками мальчик.
Я сидел скраюшку и весело мне было, и тяжело. Мальчёнок уцепил Ильича за усы и дул ему в нос, а Гаморкин, отворачиваясь и отбиваясь в шутку, говорил есаульше:
— И я своего оставил на хуторе. Только мой куда меньше вашего.
Ребенок побежал в другую комнату и принес маленькие, сшитые по его росту шаровары.
— Вот — захлебывался он и, протягивая поясок с серебряным набором, говорил, — вот, и пика есть, на дворе!
— Ты-б еще, — недовольно морщилась мать — и пику притащил в комнату.
Сын вертелся кругом радостный от того, что все с таким вниманием рассматривают его казачьи доспехи, потом уставился на меня. Моя молчаливая фигура видимо его заинтересовала.
— А ты? — спросил он.
— Я? Я — кум его! — отвечал я. — Он у меня герой. За двух воюет, за себя и за меня сражается. Каптенармусом он!
— И за папу?
— Папа твой, братец, сам за себя постоять может. Не маленький уже.
— А я маленький.
— Ты-то маленький, это верно. Ну, да ты не горюй. Если что — так мы за тебя и за маму все трое встанем.
Есаульша, кокетливая такая женщина, усмехнулась и повела Гаморкина показывать хозяйство, по двору и по саду. Я же сидел в гостинной. На столе лежала какая-то толстенная книга. Дотронулся я до нея, отвернул корешок, — журнальчик иллюстрированный, „Нива". На первой странице амуры нарисованы и стихотворение:
Любовь тогда лишь глубока,
Когда она созданье веры,
Когда ей нет конца и меры,
Когда с ней жизнь и смерть легка!
До конца я не прочитал, вошла есаульша с Гаморкиным. На глазах у нее все время стояли слезы. Говоря о муже, она не могла себя сдержать.
Читать дальше