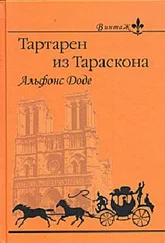Во всей комнате чувствовался опьяняющий запах турецкого табака, приправленного опиумом, и царил такой же беспорядок, как на туалетном столике. Негритянки входили и выходили, не торопясь убирали кофейный прибор своей госпожи. Любимая газель вылизывала чашечку, которую она опрокинула своей острой мордочкой на ковер; сидевший с трогательной фамильярностью у постели мрачный Кабассю читал вслух драму в стихах, которую должны были вскоре играть у Кардальяка. Левантинка была подавлена, просто оглушена этим произведением.
— Дорогой мой! — сказала она Жансуле со своим тяжелым фламандским акцентом. — Я не понимаю, о чем думает наш директор? Я сейчас читаю эту пьесу «Мятеж», от которой он без ума… Но ведь это ж смертельная скука! Это совсем не годится для театра.
— Плевал я на театр! — воскликнул рассвирепевший Жансуле, несмотря на все свое уважение к дочери Афшенов. — Как, вы еще не одеты? Разве вам не сказали, что мы едем в гости?
Ей сказали, но она начала читать эту дурацкую пьесу. И она заявила со свойственным ей сонным выражением лица:
— Мы поедем завтра.
— Завтра? Это невозможно! Нас ждут именно сегодня. Очень важный визит!
— Куда это?
Он немного помялся, потом ответил:
— К Эмерленгу.
Она посмотрела на него, широко раскрыв глаза, думая, что он шутит. Тогда он рассказал ей о своей встрече с бароном на похоронах де Мора и об их взаимном уговоре.
— Поезжайте, если хотите, — сказала она холодно, — но вы меня плохо знаете, если думаете, что я, урожденная Афшен, когда-нибудь переступлю порог этой рабыни.
Предусмотрительный Кабассю, чувствуя, что спор этот может завести далеко, незаметно удалился в соседнюю комнату, унося под мышкой все пять тетрадей «Мятежа».
— Я вижу, — сказал жене Набоб, — вы не понимаете, в каком ужасном положении я нахожусь. В таком случае я вам расскажу…
Не обращая никакого внимания на горничных и негритянок, с величайшим пренебрежением восточного человека к слугам, он стал описывать ей свое бедственное положение: там его состояние в чужих руках, здесь им утрачен кредит. Он говорил о том, что вся его жизнь висит на волоске в ожидании решения Палаты, о влиянии Эмерленга на докладчика-адвоката и необходимости принести в эту минуту все свое самолюбие в жертву столь важным для них обоих интересам. Он говорил с жаром, стараясь убедить ее, увлечь. Но она ему ответила: «Я не поеду», — как будто речь шла о не имеющей значения прогулке, слишком долгой и потому для нее утомительной.
Он весь дрожал:
— Нет-нет, я не верю, что вы это серьезно!.. Не забывайте, что речь идет о моем состоянии, о будущем наших детей, об имени, которое вы носите… Все зависит от этого шага, и вы не можете мне отказать!
Если бы он продолжал говорить ей в таком духе до самого вечера, все равно он в конце концов натолкнулся бы на то же упрямство, твердое, непоколебимое. Она урожденная Афшен, она не поедет с визитом к рабыне.
— Право же, милая моя, — грубо крикнул он, — эта рабыня куда лучше вас! Своим умом она удвоила состояние мужа, а вот вы…
Впервые за все двенадцать лет их совместной жизни Жансуле осмелился в разговоре с женой повысить голос. Устыдился ли он преступного оскорбления величества или понял, что эта фраза может образовать между ними непроходимую пропасть? Так или иначе, он сразу переменил тон. Опустившись перед кроватью на колени, он сказал с той нежной шутливостью, с помощью которой пробуют уговорить детей:
— Марта, малютка, ну, пожалуйста!.. Встань и оденься! Ведь я прошу об этом ради тебя же самой, ради твоем роскоши, твоего благополучия… Что будет с тобой, если из-за каприза, из-за злого упрямства мы окажемся обреченными на нищету?
Слово «нищета» не доходило до сознания левантинки. О нищете можно было говорить при ней так, как при малышах говорят о смерти. Это слово не пугало ее, потому что она не знала, что это такое. Притом ей уж очень хотелось остаться в кровати, в своей джеббе. И, чтобы утвердиться в своем решении, она зажгла новую папиросу от той, которую докуривала.
Пока Набоб осыпал свою «дорогую женушку» извинениями, просьбами, мольбами, обещая ей жемчужную диадему в сто раз лучше той, которая у нее была, если только она пойдет, она смотрела, как поднимается к расписанному потолку усыпляющий дымок, словно обволакивавший ее и сообщавший ей невозмутимое спокойствие. В конце концов, упершись, как в каменную стену, в этот отказ, в это молчание, в это упрямое выражение лица, Жансуле дал волю своему гневу.
Читать дальше