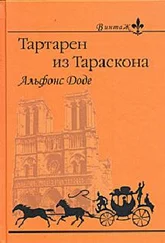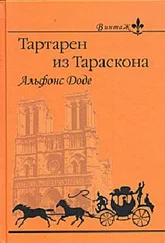Руместан умолк и до самого Парижа не сказал больше ни слова. Он вновь поддался той же меланхолии, что и утром, но сейчас испытывал еще и раздражение, возмущение глупостью и слепотой женщин, способных терять голову из-за дураков и самовлюбленных жеребчиков. Ну что такого особенного в этом Лаппара? Не вмешиваясь в спор, он, в безукоризненно сшитом костюме с широким шейным вырезом, фатовато поглаживал свою белокурую бородку. Хотелось надавать ему оплеух. Такой именно вид напускал он, наверно, на себя, когда пел дуэт из «Мирейли» с малюткой Башельри… Она, конечно, его любовница… Мысль эта бесила Руместана, но вместе с тем он хотел знать наверняка, хотел убедиться…
Едва они очутились наедине в карете, катившей по направлению к министерству, он безо всяких околичностей, не глядя на Лаппара, спросил:
— Давно вы знаете этих женщин?
— Каких женщин, господин министр?
— Да обеих дам Башельри?
Мысли его были заняты ими, и он полагал, что все тоже только о них и думают. Лаппара рассмеялся.
О, давно! Это его землячки. Семейство Башельри, театрик Фоли-Борделез — это все милые воспоминания его ранней юности. Когда он учился в лицее, из-за мамаши Башельри сердце его билось так, что отрывались пуговицы форменной курточки.
— А теперь оно бьется из-за дочки? — деланно-небрежным тоном спросил Руместан, вытирая перчаткой стекло кареты, чтобы посмотреть на мокрую темную улицу.
— О, дочка — это совсем другой коленкор!.. Вид у нее довольно легкомысленный, а на самом деле это холодная и серьезная девица… Не знаю, чего она добивается, но, во всяком случае, не того, что я в состоянии был бы ей дать.
Нума почувствовал некое облегчение.
— Ах, так?.. Однако вы продолжаете их посещать?
— Конечно… Дома у них довольно занятно… Папаша, бывший директор, сочиняет комические куплеты для кафешантанов. Мамаша поет их с соответствующей мимикой, готовя белые грибы в масле и уху из морской рыбы, — таких блюд у самого Рубьона не найдешь. Крик, безалаберщина, бренчанье на рояли, пирушки — словом, Фоли-Бержер на дому. Малютка всюду заправила, кружится, ужинает, распевает, но ни на секунду не теряет головы.
— Э, мой мальчик! Вы, небось, рассчитываете, что в один прекрасный день она ее все же потеряет, и притом к вашей выгоде. — Внезапно напустив на себя весьма внушительный вид, министр добавил — Неподходящая для вас среда, молодой человек. Надо, черт побери, быть серьезнее! Нельзя строить жизнь на одних бордоских Фоли.
Он взял его за руку.
— А вы не подумываете о женитьбе?
— Да нет, господин министр!.. Мне и так хорошо… Разве что подвернется уж очень счастливый случай…
— Мы найдем этот счастливый случай… При вашем имени, связях… — И тут он поддался внезапному порыву — Что вы сказали бы о мадемуазель Ле Кенуа?
Несмотря на всю свою смелость, бордосец побледнел от радостного волнения.
— О, господин министр, я никогда не посмел бы…
— Почему же нет?.. Ну да, ну да… Вы же знаете, как я люблю вас, мой мальчик… Я был бы счастлив, если бы вы с нами породнились, я чувствовал бы себя уверенней…
Он сразу осекся, вспомнив, что подобную фразу он уже утром сказал Межану.
«Ну, ладно!.. Что сделано, то сделано».
Он по привычке дернул плечом и забился в угол кареты. «Ортанс выберет, кого захочет… А я, во всяком случае, вытащу этого парня из неподходящей компании». Руместан был совершенно искренне убежден, что у него нет никаких иных побуждений.
В этот вечер Сен-Жерменское предместье имело необычный вид. Улочки, обычно тихие и рано отходящие ко сну, просыпались от грохота омнибусов, катившихся отнюдь не по установленному для них маршруту. Некоторые из крупных артерий Парижа, свыкшиеся с непрерывным волнообразным шумом города, походили, наоборот, на сухие русла рек, из которых отвели воду: на подступах к ним, молчаливым, пустым и словно расширившимся, высилась фигура конного жандарма, или же поперек асфальтовой мостовой лежала унылая тень кордона полицейских с опущенными капюшонами, с руками, засунутыми поглубже в рукава дождевиков, — они находились здесь, чтобы не пропускать экипажей.
— Что тут, пожар? — спрашивал кто-нибудь, испуганно высовывая голову иэ окна кареты.
— Нет, сударь, сегодня званый вечер в Министерстве народного просвещения.
Полицейский возвращался на свой пост, а кучер отъезжал, кляня все на свете из-за того, что ему теперь придется делать огромный крюк на левом берегу Сены, где проложенные безо всякого плана улицы еще напоминают о лабиринте старого Парижа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу