Но теперь Джордж не испытывал этих чувств. Фигура в зеркале походила на удобное одеяние, которое он носил всю жизнь и от которого на минуту отказался. Его нагой дух вышел из этой грубой оболочки, и это облачение из костей и плоти отвечало духу взглядом, пробуждая в нем чувство приязни и уважения, с каким мы смотрим на любую старую вещь — башмак, стул, стол или шляпу, — которая жила с нами одной жизнью, служила нам верой и правдой.
Теперь они оба немного помудрели. Эта плоть не предавала его. Она была сильной, стойкой, неимоверно чувствительной в сфере своих чувств. Руки были слишком длинные, ноги слишком короткими, кисти рук и ступни походили на обезьяньи больше, чем у большинства людей, но были человеческими, не уродливыми. Уродство было только в его безумии, в озлоблении сердца. Но теперь через мудрость тела и мозга он понял, что дух, возомнивший себя слишком утонченным для грубых земных целей, либо слишком незрел и неискушен, либо чрезмерно сосредоточен на себе, слишком устремлен внутрь, слишком влюблен в красоты собственной художнической души и заслуживает того, чтобы затеряться в чем-то большем, чем сам, и таким образом обрести свое место, делать в мире мужскую работу — а если слишком утончен для этого, то, следовательно, слаб, хрупок, никчемен.
Они вместе открывали землю, его плоть и он, открывали самостоятельно, тайком, в изгнании, в странствиях, и в отличие от большинства людей знали то, до чего дошли сами. Самостоятельно, своим тяжелым трудом, они взяли в руки чашу знаний и осушили. Узнали то, что большинство людей было бы радо знать. И что же узнали они, пройдя путем трудов и страданий? Вот что: они любят жизнь и своих собратьев-людей, ненавидят смерть-в-жизни, и жить лучше, чем умереть.
Теперь он смотрел на свое тело без презрения или злобы, с удивлением, что живет в этой обители. Теперь он осознавал и принимал его несовершенства. Теперь он понимал, что демон его жажды будет вечно недосягаем. Сознавал, что люди больше, чем люди, и меньше, чем дух. Чем обладаем мы, кроме сломанного крыла, чтобы иметь возможность парить в поднебесье?
Да! Он сознавал, глядя на нелепую фигуру в зеркале, что сделал со своей жаждой и своей плотью все, что по силам человеку. И сознавал также, хотя его распухшее, избитое лицо могло показаться физиономией безумца, что дух, обитающий за этой маской, теперь спокойно, здраво взирает на мир впервые за десять лет.
— Это человек, — спросил он, — сидит так неусыпно во чреве ночи?
— А раз так неусыпно, то разве не Тело вмещает человека?
— Это неправда. А теперь, Тело, дай мне поспать.
— Это правда. А теперь, Человек, отвяжись от меня.
— Нет, Тело; жестокий, неотвязный Червь, таящийся во чреве ночи, непрерывно извивается, и это не дает мне заснуть.
— Этот Червь твой. В давно прошедшие годы, когда Тело, на которое ты недавно гневался, и ты лежали вместе, никакой Червь не мешал нам.
— Но существовал.
— То был Червь зарождающийся. Червь развивающийся. Червь, шевельнувшийся в крови, начало страницы.
— С чего-то, с чего-то начался разлад между нами — с чего? С чего? С Червя?
— Начался он давным-давно, Бог весть, с какой вехи, в какой ячейке памяти — возможно, с солнечного света на веранде.
— Тогда было хорошее время, тогда было все, чего теперь не стало, крыльцо, корзина, яркие настурции…
— Близкое кудахтанье греющихся на солнце кур, всеобщая утренняя суета, чей-то голос, обращающийся к тебе, в полдень скрежет трамваев, останавливающихся на углу, шарканье кожаных подошв по улице, хлопанье калиток и неожиданные приветствия, бодрящий холодок пиленого льда в полдень — тяжелый, черный дух простоватых негров, щипцы для льда, линолеум — хриплое, приятное, спокойное мычание коровы Крейна, идущей переулком вдоль ограды заднего двора…
— И ты было там?
— Да! Целиком и полностью.
— И погруженное в бездны времени и памяти?
— Нет-нет, это была твоя роль — из этих бездн и стал появляться впервые слепой, неотвязный Червь. Но я было там, было там — да, с пухлыми ножками, в корзине, чувствующее свет.
— Свет уходит, свет возвращается — печаль, надежда…
— Это порождения Червя, они твои, твои — не мои. Мое солнце.
— А печаль, Тело, когда оно исчезло?
— Иногда неприятные ощущения — не печаль. Печаль — это Червь.
— Ты ревело?
— А как же! Когда бывало грязным, испачканным, противным, мокрым, голодным, обделавшимся! Ревело! Ревело! — Да! Ревело, требуя утешения, тепла, облегчения, сытости, сухой подстилки — солнца!
Читать дальше
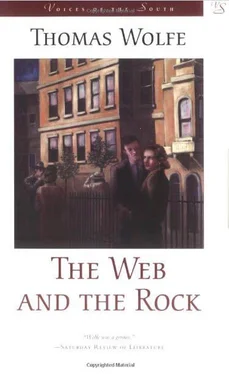

![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [английский и русский параллельные тексты]](/books/32195/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-anglijskij-thumb.webp)


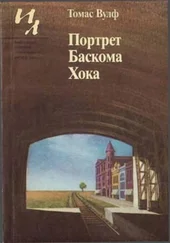
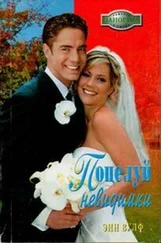
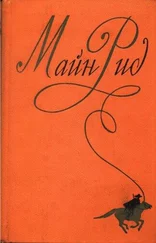
![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [litres]](/books/436326/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-litres-thumb.webp)
