Венеция разила своими каналами, недвижным смрадом, отвратительной, вредной, заразной вонью плавающих среди старых стен нечистот. То же самое было в Марселе — опасная, болезнетворная атмосфера, насыщенная запахами человеческой грязи и испражнений, дурным запахом юга, рыбы, старой средиземноморской гавани.
А Мюнхен обладал самым чистым запахом, самым тонким и незабываемым, самым волнующим, самым неопределенным. То был почти неощутимый запах, неизменно пронизанный бодрящей легкостью альпийской энергии. Летом солнце светило жаркими лучами с сияющей голубизны неба. Чем жарче становилось, тем лучше Джордж себя чувствовал. Он вдыхал полной грудью горячий воздух и солнечный свет. Казалось, пил огромными глотками солнечную энергию. Был исполнен легкости, радости и жизненной силы — как это было непохоже на духоту и апатию, маету, дышащее зноем небо и накрывающие город нечистые, миазматические испарения нью-йоркской жары.
Джордж всегда знал, что Альпы неподалеку. Ощущал их на юге, в часе пути, ощущал сияющее великолепие этих призрачных гор. Он не видел их, но вдыхал вместе с воздухом, чувствовал их запах, запах чистого, благородного эфира альпийской энергии.
Наступил и окончился август. Что-то ушло из дней, что-то исчезало с солнца. По ночам появлялись резкое дыхание осени, ощущение чего-то быстро убывающего, пока что смутное, днем солнце еще горело, но что-то уходило, исчезало, вызывая в душе какую-то зловещую печаль. Очаровательное лето уходило на юг, в Италию.
Ночи в начале сентября были прохладные, иногда Джордж слышал шелест сухих листьев. Иногда вслед за порывом ветра по тротуару, шелестя, проносился лист. И кто-то торопливо проходил мимо. И снова слышались шелест листвы, плеск воды в фонтане, чем-то непохожий на плеск летней ночью. Джордж по-прежнему гулял вечерами и сидел в саду Нойе Борсе. На террасе за столиками все еще сидели люди. Гуляющих почти не было. Под ногами Джорджа негромко хрустел гравий. Окна и двери большого кафе были закрыты. Внутри было полно людей. Играл оркестр. Воздух был слегка спертым от тепла еды и людского дыхания, музыки, пива. Но Джордж сидел на веранде, слыша, как шелестит лист по гравию, ощущая наконец в воздухе призрак осени.
Жил Джордж на углу Терезиенштрассе и Луизенштрассе. Пансион назывался «Бюргер», но жильцы его бюргерами не были. Здание было простым, основательным, трехэтажным, почти без украшений, но с той непременной массивностью, внушительной тяжеловесностью, которая присуща почти всей немецкой архитектуре и которой американские здания не обладают.
Джордж не знал, как этого добились, но эти здания казались чуть ли не архитектурным отражением немецкой души. В них было нечто вызывающее, грозное. Он считал, что эту архитектуру можно назвать своего рода немецким викторианством. Оно наверняка появилось в славные дни правления Вильгельм Второго. Вне всякого сомнения, под влиянием того стиля, который англичане именуют викторианским. Но это было викторианство, обработанное кулаком Вотана. Викторианство, отуманенное пивом и отягощенное непомерной массивностью. Викторианство с древними темными лесами в нем. Гортанное викторианство. И в сравнении с его сокрушительной массивностью, грозной, устрашающей тяжеловесностью, лучшие образцы архитектуры во владениях покойной королевы кажутся волшебно легкими. Старая нью-йоркская почта — чудом изящества и парящей невесомости.
Мимо этих домов Джордж всякий раз проходил с чувством подавляющей беспомощности. Не потому, что они были такими уж огромными, массивными. Беспомощность у него вызывало сознание, что их невозможно хотя бы примерно измерить в обычных единицах веса. И не имело значения, что здания всего трех-четырехэтажные, они подавляли его, как ни одно здание в Америке.
Когда Джордж думал о Нью-Йорке, об ужасающем виде Манхеттена, покрытом кратерами ландшафте его парящих башен, он казался громадной фантастической игрушкой, построенной изобретательными детьми, так, как дети строят маленькие города из картонных коробок, аккуратно проделывают в картоне множество окон, а потом зажигают за ними свечи, чтобы создать иллюзию освещенного города. Даже какое-то старое американское здание, какой-нибудь старый склад с необыкновенно, приятно гладкими глухими стенами (они всегда почему-то напоминали Джорджу о волнениях в 1861 году и об иллюстрациях в старых номерах журнала «Харперс Уикли») казались по сравнению с этими строениями лишь немного прочней бумаги. Всякий раз, возвращаясь домой, он просыпался утром на судне в Карантине, выглядывал в иллюминатор и видел очень волнующую, пробуждающую воспоминания сцену — первый вид американской земли, влажную, буйную, несколько бледную зелень, выцветший флаг и в высшей степени необыкновенное, волнующее, впечатляющее, мгновенно вспоминаемое с потрясением узнавания и благоговения зрелище белого каркасного дома или здание из шелушащегося кирпича ржавого цвета — с ощущением, что все они так похожи на игрушки, так непрочны, что он мог бы носком ноги пробить отверстия в их гладких глухих стенах, дотянуться туда, где шпили и бастионы Манхеттена купались в утренней дымке, будто нечто хрупкое, легкое, плавающее в воде, и скосить все это одним взмахом руки, схватить и выдернуть с легкостью, словно луковицы.
Читать дальше
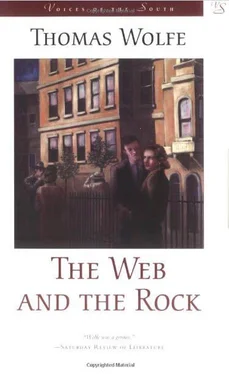

![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [английский и русский параллельные тексты]](/books/32195/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-anglijskij-thumb.webp)


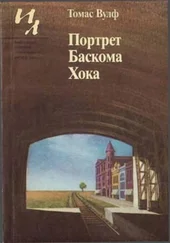
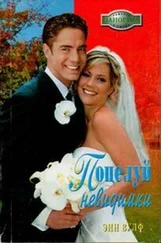
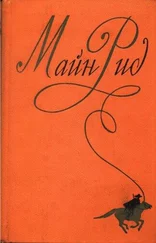
![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [litres]](/books/436326/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-litres-thumb.webp)
