Пустячную! В том-то и беда — если б только нам вечно не приходилось делать пустячную работу! Если б только они могли хоть на миг подумать о великом событии или грандиозном деле. Если б только на уме у них были вечно не пустяки, не пустячная работа, которую нам нужно сделать! Если б в ней было хоть что-то, какая-то искра радости, возвышающая сердце, искра очарования, способная возвысить дух, искра понимания того, что мы хотим совершить, хоть зернышко чувства, хоть грань воображения! Но нам всегда поручают пустячную работу, пустячное дело!
Разве недовольство у нас вызывает пустячная работа, о которой она просит? Разве нам ненавистно пустячное усилие, которое для нее потребуется? Разве мы так неблагородно отказываем ей в пустячной помощи из ненависти к работе, из страха вспотеть, из духа неуступчивости? Нет! Вовсе не потому Дело в том, что в начале второй половины дня женщины бестолковы и бестолково просят нас о бестолковых вещах; по своей бестолковости они вечно просят нас о пустяках и ничего не способны понять!
Дело в том, что в этот час дня мы хотим быть подальше от них — мы предпочитаем одиночество. В это время от них пахнет кухонным паром и скукой: мытыми овощами, капустными кочерыжками, теплым варевом и объедками. Теперь они пропитаны атмосферой помоев; с рук у них каплет, жизнь у них серая.
Женщины этого не знают, из жалости мы скрываем это от них, но в три часа их жизни лишены интереса — они нам не нужны и обязаны оставить нас в покое.
У них есть какое-то понятие утром, какое-то днем, несколько большее на закате, гораздо большее с наступлением темноты; но в три часа они докучают нам и должны оставить нас в покое! Им не понять множества оттенков света и погоды так, как нам; для них свет это просто свет, утро это утро, полдень — полдень. Они не знают того, что приходит и уходит — как меняется освещение, как преображается все вокруг; они не знают, как меняется яркость солнца, как подобно мерцанию света меняется дух мужчины. Да, они не знают, не могут понять жизнь жизни, радость радости, горе невыразимого горя, вечность жизни в мгновении, не знают того, что меняется, когда меняется свет, быстрого, исчезающего, как ласточка налету, не знают того, что приходит, уходит и никогда не может быть остановлено, мучительности весны, пронзительности безгласного крика.
Им непонятны радость и ужас дня так, как их способны чувствовать мы; им непонятно то, чего мы страшимся в этот послеполуденный час.
Для них этот свет просто свет, этот час быстро проходит; их помойный дух не улавливает ужаса жаркого света после полудня. Они не понимают нашего отвращения к жарким садам, не понимают, как наш дух тускнеет и никнет при жарком свете. Не знают, как нас покидает надежда, как улетает радость при виде пестрой неподвижности жаркого света на гортензиях, вялости широколиственных зарослей щавеля возле сарая. Не знают ужаса ржавых жестянок, брошенных в мусорные кучи под забором; отвращения к пестрому, жаркому, неподвижному свету на рядах чахлой кукурузы; им неведома безнадежная глубина тупой, оцепенелой подавленности, которую в течение часа может вызвать вид горячей грубой травы под солнцем и пробудить ужас в наших душах.
Это какая-то вялая инертность, какая-то безнадежность надежды, какая-то тупая, онемелая безжизненность жизни! Это все равно, что в три часа смотреть в пруд с затхлой водой в тупой неподвижности света, все равно, что находиться там, где нет зелени, прохлады, пения невидимых птиц, где нет шума прохладных невидимых вод, нет звука хрустальной, пенящейся воды; все равно, что находиться там, где нет золота, зелени и внезапного очарования — если тебя в три часа зовут ради пустяковых дел.
Господи, могли бы мы выразить невыразимое, сказать несказанное! Могли бы мы просветить их окухоненные души откровением, тогда бы они никогда не посылали нас заниматься пустяками в три часа.
Мы ненавидим глиняные насыпи после полудня, вид шлака, закопченные поверхности, старые, обожженные солнцем деревянные дома, сортировочные станции и раскаленные вагоны на путях.
Нам отвратительны вид бетонных стен, засиженных мухами окон грека, земляничный ужас ряда теплых бутылок с содовой водой. В это время нас тошнит от его горячей витрины, от жирного противня, который жарит и сочится каким-то отвратительным потом в полной неподвижности солнца. Нам ненавистны ряд жирных сосисок, которые потеют и сочатся на этом неподвижном противне, отвратительны сковородки, шипящие жареным луком, картофельным пюре и бифштексами. Нам противно смуглое лицо грека в послеполуденном свете, крупные поры, из которых льется пот. Мы ненавидим свет, сияющий в три часа на лигомобилях, ненавидим белый гипс, новые оштукатуренные дома и большинство открытых мест без деревьев.
Читать дальше
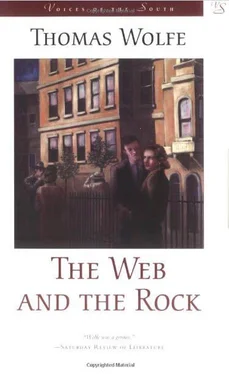

![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [английский и русский параллельные тексты]](/books/32195/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-anglijskij-thumb.webp)


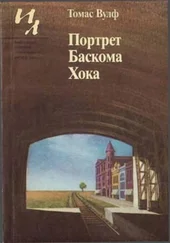
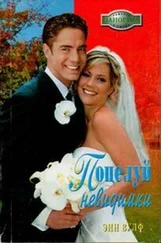
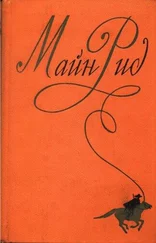
![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [litres]](/books/436326/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-litres-thumb.webp)
