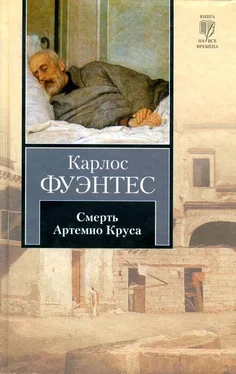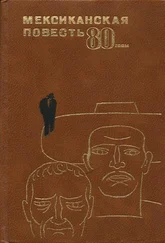…Сына и Святого духа, аминь.
Есть более страшное…
— Нет, в этом случае прощупалась бы опухоль, да и, кроме того, было бы смещение или частичное омертвение какого-нибудь органа.
— Повторяю: такую боль может причинить только заворот кишок; отсюда — непроходимость…
— Тогда следовало бы оперировать…
— Может быть, началась гангрена; это тоже надо учитывать…
— Цианоз налицо…
— Гипотермия…
— Липосаркома…
Замолчите… Замолчите!
— Откройте окна.
Я не могу пошевелиться, не знаю, куда смотреть, куда повернуться. Никакой температуры, только холод идет от ног; но не такой холод или жар, как у других, как в других, Я это впервые…
— Бедняжка… Она разволновалась:..
…молчите… я знаю, какой у меня вид, не говорите ничего… знаю, что ногти почернели, кожа посинела… молчите…
— Аппендицит?
— Надо оперировать.
— Рискованно.
— Повторяю: почечные колики. Два кубика морфина, и он успокоится.
— Рискованно.
— Кровотечения нет…
Спасибо. Я мог умереть в Пералесе. Я мог умереть с тем солдатом. Я мог умереть в той синей комнате рядом с толстяком. Я выжил. А ты умер. Спасибо.
— Держите его. Судно.
— Видишь, чем кончает? Видишь? Тем же, чем и мой брат. Один конец.
— Держите его. Судно.
— Держите его. Он уходит. Держите…
Они кричат. Они обе кричат. Я их не слышу, но им надо кричать. Нет, ничего. Еще не случилось. Им надо кричать, чтобы этого не случилось. Меня держат, меня не пускают. Но нет. Уходит, уходит без ничего, голый. Без своего добра. Держите его. Уходит…
Тыбудешь читать письмо, написанное в концентрационном лагере, письмо с заграничной маркой, подписанное: «Мигель». В него будет вложено другое, написанное наспех. Ты возьмешь это письмо, прочтешь: «Я не боюсь… Я помню о тебе… Тебе не было бы стыдно… Я никогда не забуду эту жизнь, папа, потому что она научила меня всему, что я знаю… Я расскажу тебе, когда вернусь. Лоренсо». Ты прочтешь и заново сделаешь выбор; Ты изберешь другую жизнь.
Ты предпочтешь оставить его с Каталиной, не увезешь в Кокуйю, не позволишь ему самому выбрать свой путь, не толкнешь его к ранней смерти, которая могла бы стать твоим уделом; не заставишь его сделать то, чего сам не сделал, — заплатить за твою пропащую жизнь; не позволишь, чтобы на скалистой тропе вместе с ним скончался бы и Ты, а она спасла бы свою душу.
Ты предпочтешь обнять того раненого солдата, случайно попавшего в лес, уложить его, промыть простреленную руку водой из ручейка, перевязать его, остаться с ним, вдохнуть в него жизнь и ждать, ждать, пока вас найдут, арестуют и расстреляют в какой-нибудь безымянной деревушке — как та, пыльная, сложенная из кирпича, крытая листьями: казнят неизвестных, раздетых догола; похоронят в общей могиле, без всякого надгробия. Умрешь двадцати четырех лет — и более никаких раздумий, поисков, колебаний: умрешь, держа за руку безымянного солдата, спасенного тобою; умрешь.
Ты скажешь Лауре: да.
Ты скажешь толстому человеку в комнате с голыми синими стенами: нет.
Ты предпочтешь остаться в камере с Берналем и Тобиасом, разделить их судьбу; не пойдешь в залитое кровью патио, чтобы оправдать себя; не станешь думать, что смертью Сагаля Ты отомстишь за товарищей.
Ты не отправишься к старому Гамалиэлю в Пуэблу.
Ты не возьмешь Лилию, когда она вернется той ночью; Ты не будешь думать, что никогда уже не сможешь обладать другой женщиной.
Ты нарушишь молчание в тот вечер и заговоришь с Каталиной, испросишь у нее прощения, расскажешь ей о тех, кто умер за тебя, попросишь, чтобы она приняла тебя таким, каков Ты есть, со всем тем, что сделал; попросишь ее, чтобы она тебя не презирала и приняла таким, каков Ты есть.
Ты не оставишь учителя Себастьяна, будешь тем, кем был; не пойдешь в революцию, на север. Ты будешь пеоном. Ты будешь кузнецом.
Ты останешься внизу, со всеми теми, кто остался внизу.
Ты не будешь Артемио Крусом, семидесяти одного года от роду, семидесяти девяти килограммов весом, метра восьмидесяти двух сантиметров ростом; у тебя не будет вставных зубов, Ты не будешь курить черные сигареты и носить рубашки из итальянского шелка, не будешь коллекционировать запонки, выписывать галстуки из Нью-Йорка, шить эти синие костюмы с тремя пуговицами — предпочтительно из ирландского кашемира, — не будешь пить тонкие вина, не станешь ездить на таких машинах, как «вольво», «кадиллак» и «рамблер». Ты не будешь помнить и любить ту картину Ренуара, не будешь есть на завтрак яйца всмятку и тосты с вареньем «Blackwell», не будешь по утрам читать свою собственную газету и перелистывать «Life» и «Paris Match» по вечерам, не будешь терпеть возле себя это словоблудие, этот хор, эту ненависть, которая хочет раньше времени похоронить тебя и принуждает, принуждает думать о том, о чем Ты еще недавно мог говорить улыбаясь и что сейчас с ужасом гонишь прочь:
Читать дальше